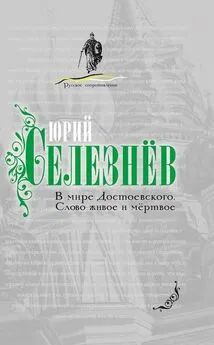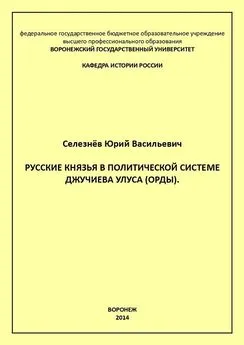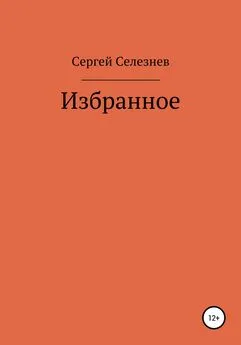Юрий Селезнев - Достоевский
- Название:Достоевский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Селезнев - Достоевский краткое содержание
Новая биографическая книга о Ф. М. Достоевском, выходящая в серии «Жизнь замечательных людей», приурочена к 160-летию со дня рождения гениального русского писателя. Прослеживая трудный, полный суровых испытаний жизненный путь Достоевского, автор книги знакомит молодого читателя с многообразием нравственных, социальных, политических проблем, обуревавших создателя «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых».
Достоевский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И он понял, чт о оскорбило его во фразе Мирецкого: тот сказал то же, что много раз говорил себе и сам Достоевский, будто повторил ему его же мысль, и все же это была и не его мысль, и даже враждебная ему — холодная, бесчувственная, почти мертвая личина его собственной мысли. Этот народ был чужим для Мирецкого, преступным уже потому, что это русский народ — палач, по его убеждению, его родной, единственно священной ему Польши. И не только — они были людьми разных наций, не оттого, что одни из них — русские, а другие — поляки, а потому что в жизни Мирецкого никогда не было своего, ни русского, ни польского Марея, и он видел в мужике только бандита. У него не могло быть иного взгляда на мужика, потому что он всегда мыслил о народе и о самой Польше и ее свободе, ее будущем с точки зрения своих утопических теорий о том, как все должно быть.
Значит, нужна была тогда, двадцать лет назад, эта встреча с Мареем, забывшаяся, исчезнувшая, казалось, навсегда, но вдруг воскресшая теперь, когда было нужно, когда он мог и хотел погибнуть; воскресшая и воскресившая его. Что-то явно изменилось — его по-прежнему могли обругать и даже пристать, что называется, с ножом к горлу, но его больше не чуждались, и это было самое странное, потому что они ведь ни о чем не говорили, но будто поняли друг друга, будто его состояние невольно передалось и им.
«Не навсегда же я здесь, а только на срок», — думал он, засыпая.
Раньше он не замечал этого: в остроге было немало людей, старавшихся сколько возможно облегчить участь узников, прежде всего политических. Караульную службу в эти годы несли семь «морячков» — разжалованные гардемарины, исключенные из Морского кадетского корпуса.
Правда, и теперь всякое проявление сочувствия к себе Достоевский воспринимал настороженно, замыкался, не доверяя до конца, боялся разоткровенничаться, чтобы не было вдруг снова горького похмелья, но сердце тайком радовалось: люди — везде люди, даже здесь, где, казалось, невозможно оставаться человеком, тем более что любое, даже самое невинное, проявление расположения служилых людей к политическим преступникам постоянно находится под угрозой доноса и жестокого наказания. Взять хоть отца Александра Сулоцкого... Казалось бы, что до них захолустному протопопу, но, пользуясь тем, что майор Кривцов неравнодушен к его дочери, а потому заходит к нему часто «чаю попить» и выпивает чуть не ведро сивухи за вечер, Сулоцкий старается повлиять на отношение этого «фатального существа» к несчастным. Сулоцкий сумел установить связь между узниками Омского острога и декабристами — это был уже серьезный риск. «Есть в Сибири и почти всегда не переводится несколько лиц, которые, кажется, назначением жизни своей поставляют себе — братский уход за «несчастными», сострадание и соболезнование о них, точно о родных детях, совершенно бескорыстное, святое», — писал Достоевский. «Спешите делать добро» — этот закон жизни, выдвинутый доктором Гаазом, Достоевский не раз вспоминал здесь, на каторге. И хотя скорее всего отец протопоп никогда и не слышал ни о Гаазе, ни о его призыве, он просто жил по этому закону совести.
Сочувствовал ссыльным и штаб-доктор Троицкий, работавший в омском госпитале и при любой возможности старавшийся определить к себе на лечение кого-либо из несчастных и подержать у себя подольше. Троицкий на свой страх и риск разрешил Достоевскому писать во время болезни и хранил у себя его записи. И что еще удивило, даже поразило его — делалось это с молчаливого согласия де Граве — коменданта крепости. Федор Михайлович понимал, конечно, что взяться сейчас за что-то большое, даже за рассказ, немыслимо: удавалось писать лишь украдкой, от случая к случаю, тем более после такого перерыва... Но записывать коротко главные свои наблюдения, наброски мыслей, характеров, выражения, словечки — одно это уже целая жизнь. Настоящая жизнь. Главное — и здесь люди.
Как-то незаметно для самого себя сблизился с сероглазым, темно-русым с проседью осетином — Нуррой Оглы. Нурра — лев, не человек. Достоевскому всегда представлялось, что он предводительствовал какой-нибудь шайкой горцев, совершал набеги. Выяснилось, однако, что сидит он просто за воровство. Это несколько разочаровало Достоевского, и он тайно все-таки предпочитал по-прежнему видеть в Нурре отчаянного, свободолюбивого горца. А вот двадцатишестилетний Али из Шемахинской губернии, дагестанский татарин, казался ему совсем ребенком, хотя и был младше Достоевского всего на несколько лет. Он так по-сыновьи привязался к русскому, что трое его старших братьев, сидевших вместе с ним, поначалу поглядывали на Достоевского с ревнивой угрозой, но потом, узнав, что русский потихоньку обучает брата грамоте, прониклись к нему уважением, и, если б теперь кому-нибудь из каторжных вздумалось обидеть учителя, трудно даже сказать, что сделали бы с ним братья.
Он обучил грамоте и других сотоварищей но острогу, они же учили его хитростям каторжной жизни. Он знал теперь, как носить кандалы, чтобы не стереть ноги до костей, как сохранить необходимейшее от воров.
Любил побеседовать с ним и Исай Фомич Бумштейн, с которым тоже сложились чуть ли не приятельские отношения. Впрочем, кому не был здесь приятелем Исай Фомич? Незлобивый, тщедушный, словно цыпленок (а получил 12 лет за убийство жены), он в то же время удивлял какой-то непоколебимой самоуверенностью, за что над ним нередко пошучивали незлобиво. Его даже как будто любили, во всяком случае, никто не обижал его, хотя и редко кто не был ему должен. Ювелир по ремеслу, Исай Фомич неплохо подрабатывал на заказах городских любителей изящного; давал под проценты и брал вещи в заклад; копил деньги — надеялся еще раз жениться по выходе из каторги; жить собирался долго. Был крещен по православному обряду, но по просьбе сотоварищей, больших охотников до всяких представлений, не отказывался иной раз справлять по субботам и свой «шабаш», как называли его моления каторжные.
Достоевский полюбопытствовал однажды, что за жалобную песню без слов, вечное — ля-ля-ля! — напевает он, чем бы ни занимался, тонким своим дискантом. Когда уже познакомились поближе, Исай Фомич доверительно рассказал ему, будто это та самая песня, которую пели его предки чуть не три тысячи лет назад, переходя Чермное море, с тех пор будто бы и было заповедано всем потомкам петь ее в минуты торжества над врагами. Немало любопытного порассказал ему Исай Фомич. Впрочем, теперь многие из каторжных охотно делились с Достоевским своими историями. И чего он только здесь не наслушался! На две жизни хватило бы.
Однажды один молоденький острожник, тот самый, что успел уже в свои двадцать три года загубить восемь душ, расчувствовался, открылся Достоевскому: «Все кругом такие жестокосердные, всплакнуть негде. Бывало, пойдешь в угол, да там и поплачешь... Бывши в солдатах, сколько раз хотел порешить себя, да все — осечка... Как-то и ружье осмотрел, и пороху сухого подсыпал, и кремешок пообил, спустил курок — порох вспыхнул, а выстрела все-таки нет... А тут командир, да как заорет: «Разве так стоят в карауле?» — Не знаю, как произошло, но всадил я в него штык по самое дуло...»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: