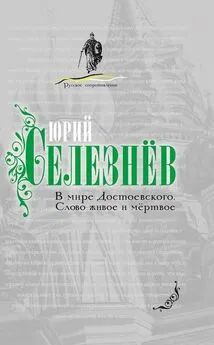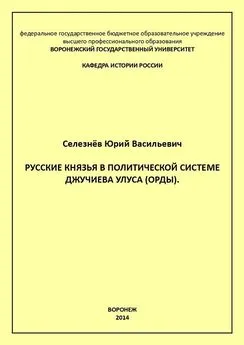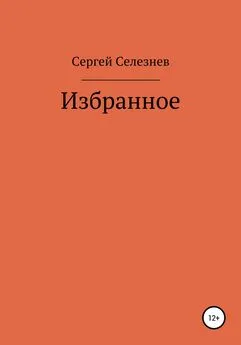Юрий Селезнев - Достоевский
- Название:Достоевский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Селезнев - Достоевский краткое содержание
Новая биографическая книга о Ф. М. Достоевском, выходящая в серии «Жизнь замечательных людей», приурочена к 160-летию со дня рождения гениального русского писателя. Прослеживая трудный, полный суровых испытаний жизненный путь Достоевского, автор книги знакомит молодого читателя с многообразием нравственных, социальных, политических проблем, обуревавших создателя «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых».
Достоевский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вступая в борьбу еще и с Катковым, Федор Михайлович прекрасно понимал — легко не будет, да и помощи, по существу, ждать неоткуда. Но и молчать не мог. Толмачеву он, конечно, не знал; как там она читала Пушкина, с каким «темпераментом» и поблескиванием «черных очей», судить мог только по публикациям. Но дело было и не в ней самой: дети и женщины — так он чувствовал — извечные униженные и оскорбленные, и кто же, как не русский писатель, обязан сказать свое слово в их защиту? Его совершенно не устраивала та эмансипация, которую все определеннее практиковала молодежь, да и не одна она: распад семей, фиктивные браки, свободное сожительство, порою целыми коммунами, — такого рода болезненные и даже уродливые формы решения вопроса о женском равноправии возмущали его; к тому же все это только давало оружие тем, кто вовсе не хотел бы слышать слов о свободе и равноправии... И вот либерал Катков в одном из ведущих русских журналов и Пушкина сумел истолковать в «клубничном смысле»...
«...«Русский вестник» называет нас эмансипаторами и всенародно стыдит этим названием... Да, послушайте, вы в самом деле нас морочите? — писал он, будто видя перед собой живого, а не «журнального» Каткова. — Да мы именно хлопочем о высшем нравственном развитии; именно о том, чтоб чувство долга свободно вкоренилось в душу как мужчины, так и женщины... «Да ведь это вовсе не эмансипация!» — скажет нам «Русский вестник». — «Да понимайте ее как хотите, — отвечаем мы, — только мы сами-то понимаем ее именно так...»
...Но позвольте же наконец спросить, что же вы называете эмансипацией? В этих спорах надо сначала уговориться, согласиться между собою в основных мнениях, чтобы потом понимать друг друга. Если под эмансипацией вы разумеете право всякой женщины ставить своему мужу рога, то, разумеется, вы правы в вашей ненависти к эмансипации. Но мы никогда не разумели так эмансипацию. Пусть разумеют ее другие как хотят, но для нас вся эмансипация сводится к христианскому человеколюбию, к просвещению себя во имя любви друг к другу — любви, которой имеет право требовать себе и женщина, требовать к себе уважения и... нравственного равенства прав с мужчиною...»
Здесь же Достоевский нашел возможность вступиться и за Белинского: «Вы желчно завидуете Белинскому и несколько раз намекали, что он невежда и крикун, и даже недавно были в восторге от стихотворения, в котором его хотели сечь — розгой эпиграммы, разумеется...» И за честь Чернышевского вступился, правда, оговорив при этом свое несогласие со многими взглядами одного из вождей «Современника»: «И ведь престранная судьба г. Чернышевского в русской литературе! Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал, что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет, больше ничего. Вдруг г. Чернышевский выходит, например, с чем-нибудь вроде «Полемических красот». Господи! Подымается скрежет зубовный, раздается элегический вой. «Отечественные записки» поместили в одной своей книжке чуть не шесть статей разом единственно о г. Чернышевском. Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале? То же и в «Русском вестнике». Там тоже было вроде маленького землетрясения...» Но главная причина спора с Катковым — все-таки в Пушкине. Потому что Пушкин — это даже не Белинский. «Пушкин — наше все», — и лучше, пожалуй, не скажешь. Да, Аполлон Александрович умеет сказать точное слово.
Аполлон Григорьев — одна из самых ярких личностей, с которыми когда-либо сводила Достоевского судьба, и, может быть, единственный после Белинского человек, равный «неистовому Виссариону» по мощи ума, богатству идей и страстности натуры. Встречи с ним давали и самому Федору Михайловичу глубокое ощущение их равноправности: он брал от Григорьева не меньше того, чем делился с ним сам. Конечно, на дружбу, в ее задушевно-человеческих проявлениях, рассчитывать не приходилось: оба ершисто-неуживчивые, непреклонные в суждениях, глубоко самобытные натуры, — скорее приходилось удивляться тому, что они вообще сумели хоть как-то притереться друг к другу. Правда, и встретились они далеко не в лучшую пору жизни Аполлона Александровича, и без того никогда не баловавшей его своей благосклонностью.
Аполлон Григорьев, как и Достоевский, был, по собственным словам, уроженцем «громадного города-села, чудовищно-фантастического и вместе великолепно разросшегося и разметавшегося растения, называемого Москвою». Москву любил с нежностью, ей был обязан тем чувством человеческой вкорененности в историческую жизнь своего народа, о котором признался однажды так: «Ничего не боялся я столько... как жить в городе без истории, преданий и памятников». Дед — таким он его запомнил — походил на аксаковского старика Багрова; как и отец Достоевского, трудами и службой сделался к концу жизни «помещиком», в Москву же пришел в нагольном полушубке из северо-восточных мест. Отец так и засел в мелких служащих; поэтому Аполлону Александровичу приходилось рассчитывать всегда только на себя. Окончив юридический факультет Московского университета, некоторое время учительствовал, с середины 40-х годов приобрел известность и как критик. Человек увлекающийся, характер страстный, он искал себя и в утопическом социализме, Фурье, и в шеллингианстве, и в масонстве, и в религии, но ни на чем не остановился, не нашел пристани душе, пока не осел в 50-м году в «Москвитянине», где вскоре обрел славу ведущего критика и развернул знамя литературной борьбы за народность и национальное возрождение искусства, утверждал культ Пушкина и Островского. «Натуральную» школу не жаловал за ее, в чем он был убежден, проповедь фатальной зависимости человека от социальной среды — сам он исповедовал идею свободы воли, полагая при всех своих сомнениях и противоречиях, что эту идею можно найти только в православии, единственной, по его словам, религии братства и подлинного демократизма. Вместе с тем в своем неприятии официальной церкви доходил до прямой ненависти. Ум парадоксальный, он и славянофилом-то был скорее по названию, да еще потому, что с западниками у него было еще меньше точек соприкосновения. Обе партии — вкупе с ними и приверженцев чистого искусства и позднее революционных демократов — он относил к категории «теоретиков», так как все они, утверждал он, идут не от живой жизни, а от тех или иных, исповедуемых ими теорий. В отличие от «теоретиков» «догматики» вообще никуда не идут и другим не позволяют, предпочитая топтаться на месте. Тех, кто не проповедует, но предписывает обществу, как и зачем жить, он называл «доктринерами». Типичным «доктринером», по Аполлону Григорьеву, стал, например, в 60-годы Катков. И наконец, все они — и «теоретики», и «догматики», и «доктринеры» — были чужды ему по самой природе его творческой натуры, поскольку все они исходили в своих суждениях о жизни от определенной системы взглядов. Аполлону Александровичу же претила любая система независимо от того, хороша она сама по себе или дурна, реакционна или революционна; жизнь сложна, противоречива, постоянно в живом движении, полна подспудных течений, едва уловимых веяний, грозящих либо мертвой зыбью, либо всемирным потопом, вселенской бурей — общественно-политическими, конечно, и эту-то вечно движущуюся в противоречиях противоборствующих стихий, мучающуюся и страдающую в отмирании и нарождении жизнь хотят втиснуть в ту или другую — не все ли равно? — систему или теорию...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: