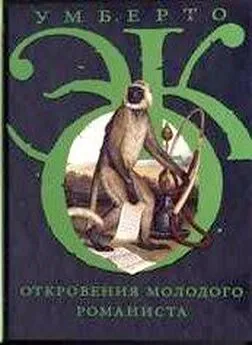Умберто Эко - Откровения молодого романиста
- Название:Откровения молодого романиста
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2013
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Умберто Эко - Откровения молодого романиста краткое содержание
Почему самоубийство Анны Карениной не оставляет нас равнодушными? Можно ли утверждать, что Грегор Замза и Леопольд Блум «существуют»? Где проходит граница между реальностью и вымыслом? Исследование творческого арсенала писателя неожиданно близко подводит к ответам на непростые вопросы: откуда берутся романы, как они пишутся и почему играют столь важную роль в нашей жизни.
Откровения молодого романиста - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
История вторая. Те из вас, кто читал «Имя розы», вероятно, помнят, что это история таинственного манускрипта, который оказывается утерянной рукописью второй книги «Поэтики» Аристотеля, что листы книги пропитаны ядом и что описана она (в главе «Седьмого дня НОЧЬ») приблизительно так: «Он прочел вслух до конца первого листа книги, потом умолк, как бы утратив интерес, и быстро просмотрел следующие несколько листов. Но оказалось, что листать эту книгу не так-то просто. Вдоль верхнего поля и вдоль обреза ее листы слиплись, склеились. Так бывает, когда книга отсыревает из-за дурного хранения. Ее бывает невозможно открыть. Пергаменты перестают отделяться один от другого, превращаясь в плотную клейкую массу».
Я написал эти строки в конце 1979 года. В последующие годы я (возможно, поскольку после выхода «Имени розы» стал чаще общаться с библиотекарями и библиофилами, а кроме того, у меня наконец появилось немного свободных денег) увлекся коллекционированием редких изданий. Я и прежде, бывало, покупал старые книги, но делал это от случая к случаю, и только если они стоили дешево. Лишь последние двадцать пять лет я занимаюсь коллекционированием книг серьезно — а «серьезно» в данном контексте означает изучение специализированных каталогов, составление технических описаний, включающих сравнительный анализ экземпляра, историческую справку о предыдущих и последующих изданиях и точнейшее описание физического состояния конкретного экземпляра. Последнее подразумевает использование специальной терминологии для описания возможных особенностей и дефектов книги: бумага покрыта «лисьими пятнами», потемнела, покоробилась, испачкана, страницы «крошатся», листы обрезаны или не обрезаны, имеются соскобы текста, книга была расшита и сшита заново, присутствуют загнутые страницы, и так далее.
Как-то раз, перебирая одну из верхних полок домашней библиотеки, я нашел экземпляр «Поэтики» Аристотеля с примечаниями Антонио Риккобони, отпечатанный в 1587 году в Падуе. Я о нем совершенно забыл. На форзаце обнаружилось написанное карандашом число «1.000», что означает, что когда-то в 1950-х я приобрел этот том за тысячу лир (что сегодня равняется примерно семидесяти американским центам). Сверившись с каталогом, я выяснил, что мой экземпляр — это второе издание, не такая уж и редкость, и что в Британском музее имеется идентичная копия. Но я был счастлив находке: ясно, что такую книгу не так просто разыскать, да к тому же комментарии Риккобони не так широко известны и цитируются гораздо реже, чем, скажем, примечания Робортелло или Кастельветро.
Итак, я приступил к составлению технического описания моего экземпляра. Переписывая на специальную карточку содержание титульной страницы, я обнаружил, что в книге имеется дополнительный раздел, озаглавленный EjusdemArs Comica ex Aristotele, описывающий утерянное сочинение Аристотеля о комедии. Вероятно, комментатор пытался реконструировать не дошедший до нас второй том «Поэтики». Но поскольку Риккобони был не единственным, кто предпринял такую попытку, я не очень-то удивился и продолжил составлять техническое описание книги. И через некоторое время меня охватило чувство, подобное тому, что испытал Засецкий, герой одной из книг советского нейрофизиолога А. Р. Лурии [19] Лурия A. P., Потерянный и возвращенный мир, М.: Издательство МГУ, 1971
. Этот Засецкий во время Второй мировой войны был ранен в голову и лишился части мозга, потеряв после операции память и способность говорить, — но сохранив способность писать. Его рука автоматически переносила на бумагу информацию, думать о которой он не мог из-за ранения, и так, шаг за шагом, перечитывая написанное, он сумел реконструировать собственную личность.
Точно так же я, холодным взглядом ученого рассматривая книгу и записывая ее физические характеристики, внезапно понял, что заново пишу «Имя розы». Единственное отличие моего экземпляра состояло в том, что его листы — начиная со сто двадцатой страницы, с раздела Ars Comica, — были серьезно повреждены не вдоль верхнего, а вдоль нижнего поля, но все прочее было идентично. Страницы моего экземпляра, потемневшие и слипшиеся от влаги, словно слились по обрезу книги в единую корку и выглядели так, будто их промазали какой-то отвратительной маслянистой массой.
Я держал в руках тот самый фолиант, который описал в романе. Он все это время, долгие годы хранился у меня дома, на книжной полке.
Нет, это не было каким-то удивительным совпадением или чудом. Я купил эту книгу давно, еще в юности, пролистал, понял, что экземпляр в ужасном состоянии, отложил в сторону и забыл о ее существовании. Но какая-то внутренняя фотокамера внутри меня запечатлела склеившиеся страницы, и образ сих ядовитых листов прятался в потаенном углу моей души на протяжении десятилетий, вплоть до той самой секунды, когда он явился мне снова — не знаю почему — и я поверил, что сам придумал эту книгу.
Этот эпизод, как и предыдущий, не имеет никакого отношения к возможным интерпретациям «Имени розы». Мораль сих басен — если уж искать в них смысл — в том, что частная жизнь эмпирических авторов зачастую куда менее доступна пониманию, чем созданные ими тексты. В промежутке между непостижимой историей текстотворения и бесконтрольным самотеком его будущих прочтений текст как таковой по-прежнему представляет собою утешительную в своем постоянстве сущность, надежную опору для всех нас.
3. Размышления о литературных персонажах
(Дон Кихот) с головой ушел в чтение, и сидел он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра; и вот оттого, что он мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать, так что в конце концов он и вовсе потерял рассудок. Воображение его было поглощено всем тем, о чем он читал в книгах: чародейством, распрями, битвами, вызовами на поединок, ранениями, объяснениями в любви, любовными похождениями, сердечными муками и разной невероятной чепухой, и до того прочно засела у него в голове мысль, будто все это нагромождение вздорных небылиц — истинная правда, что для него в целом мире не было уже ничего более достоверного. Он говорил, что Сид Руй Диас очень хороший рыцарь, но что он ни в какое сравнение не идет с Рыцарем Пламенного Меча, который одним ударом рассек пополам двух свирепых и чудовищных великанов. Он отдавал предпочтение Бернардо дель Карпьо оттого, что тот умертвил в Ронсевальском ущелье очарованного Роланда.
МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»[20] Перевод Н. Любимова
Сразу после публикации «Имени розы» я начал получать письма от читателей, которые якобы обнаружили и посетили аббатство, где разворачивалось действие романа. Многие просили снабдить их дополнительными данными о манускрипте, упомянутом в предисловии. В той самой вступительной главе я написал, что обнаружил безымянную книгу Афанасия Кирхера в одной из букинистических лавок Буэнос-Айреса. Недавно — то есть спустя тридцать лет после выхода романа — я получил письмо от немецкого читателя, который сообщал, что отыскал в Буэнос-Айресе лавку букиниста, где выставлен на продажу том сочинений Кирхера. Читатель интересовался, не тот ли магазин и не ту ли книгу я упомянул в романе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: