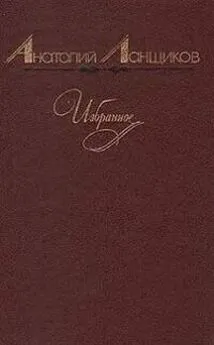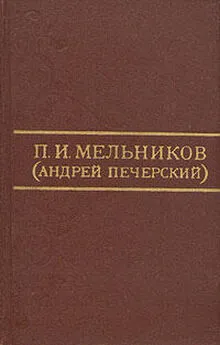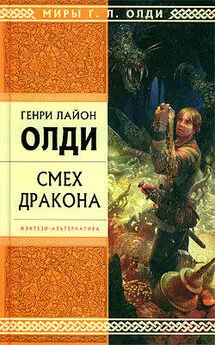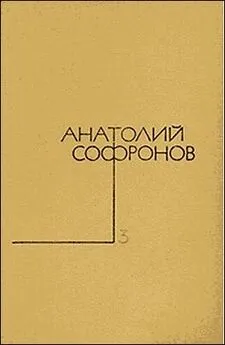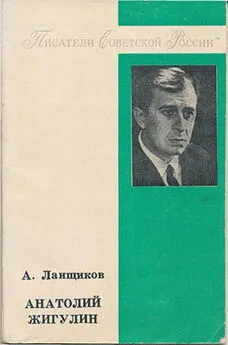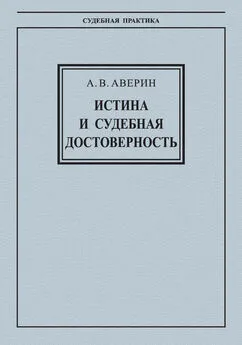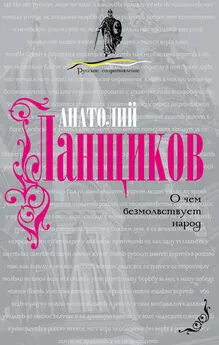Анатолий Ланщиков - Достоверность характера
- Название:Достоверность характера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1989
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ланщиков - Достоверность характера краткое содержание
Достоверность характера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И такие писатели, как Юрий Бондарев, Виктор Астафьев, Иван Акулов, Константин Воробьев, Василь Быков, Юрий Гончаров, Виктор Курочкин, Сергей Крутилин и другие, стремятся раскрыть правду времени военных лет через правду характеров, они всерьез осваивали традиции великой русской литературы (и в первую очередь традиции Толстого) и не торопились сказать свое слово до тех пор, пока не достигли писательской зрелости, предполагающей соответствия направления личного нравственного поиска с нравственным законом времени. Если порой они писали даже и не о войне, то все равно они писали войной , ибо она была тем историческим событием, что граждански их сформировало. Несколько «задержавшись» с осмыслением своих сложных вбенных переживаний, писатели этой генерации на какое-то время оказались в роли «пропущенного» поколения, но с середины минувшего десятилетия они заговорили в полный голос, и в нынешнем литературном процессе им принадлежит ведущая роль.
3
Когда писатель исследует великий подвиг народа и исследует его во всей совокупности исторических фактов, он остается верным принципу народности литературы, остается верным жизненной правде, и тогда никакой факт, ставший предметом творческого исследования и изображения, не может исказить общей картины эпохи, поскольку не произойдет нарушения закона соразмерности. И дело тут не в неком «балансе», когда любое описание трагической ситуации уравновешивается непременной оптимистической концовкой, а в позиции писателя, в том — во имя чего он обращается, допустим, к тяжелым для нас воспоминаниям. Конечно, очень непросто протянуть связующую нить между боями сорок первого года под Вязьмой и штурмом рейхстага, если это не многотомный роман, в котором прослеживается весь ход войны, а произведение короткого жанра: рассказ или повесть.
И в этих жанрах особенно важно соблюсти верность правде характера, потому как за любыми безымянными эпизодами все равно стоят события исторического масштаба, преодолеть которые не под силу никакому характеру. Мы уже говорили о том, что в период Великой Отечественной войны каждый год (или каждый ее этап) как бы равнялся нескольким годам обычной мирной жизни, вследствие чего развитие всех характеров протекало чрезвычайно быстро, причем время накладывало на них свой особый отпечаток. Так, например, героизм первых месяцев войны был иным, нежели героизм переломного периода войны, ибо перелом этот происходил не только в соотношении материальных сил, но и в сознании людей, преодолевших в себе многое, прежде чем выковалось столь необходимое для победы чувство собственного, личного превосходства над противником.
Разумеется, война не могла нивелировать характеры, но единство цели или хотя бы единство судьбы развивало характеры в определенном, пусть и свойственном им, направлении, и даже тогда, когда происходила ломка характера, то и здесь отчетливо запечатлевался дух своего времени. И мы остановимся довольно подробно на произведениях Василя Быкова не только потому, что его творчество представляет для нас с этой точки зрения интерес, но и потому, что в свое время критика не проявила должного внимания к творческим поискам этого писателя.
Так, например, прочтение многими критиками повести «Атака с ходу» могло поставить в тупик кого угодно, а вытекающий из этого прочтения характер предъявленных Быкову претензий дает основание упрекнуть многих его оппонентов в поверхностном прочтении этой повести. В частности, утверждалось, будто автор ее в качестве главного героя вывел недостаточно подготовленного в военном отношении командира, что якобы противоречит действительности; показал нетипичные, более того, недостоверные ситуации и вообще нарисовал довольно мрачную картину.
Возможно, с точки зрения каких-то абстрактных критериев подобные претензии были и уместны, однако если рассматривать эту повесть с точки зрения возможности раскрытия правды времени через правду характеров, то претензии как-то сразу теряют свою убедительность. Вот теперь, именно с этой точки зрения, то есть с точки зрения раскрытия правды времени через правду характеров, мы и постараемся рассмотреть некоторые «спорные» произведения Василя Быкова и заодно попробуем выявить главное направление его творческих исканий.
Если разводить героев повести «Атака с ходу» по каким-то категориям, то санинструктора Цветкова можно подвести под категорию трусов, хотя к такому выводу приходишь далеко не сразу.
Сам Цветков не мог решать, где ему служить: на передовой или в далеком штабе. Судьба распорядилась так, что он оказался на передовой, однако и здесь им была найдена лазейка, вроде бы и пустяковая, но все-таки... Должность ротного санинструктора, разумеется, от пули не гарантировала, но Цветков отлично понимал — полностью избежать опасности ему и не удастся, поэтому его тактический план состоял в том, чтобы постоянно сводить степень опасности до минимума. И тут должность санинструктора открывала для него определенные возможности.
Рота совершает трудный марш и в любой момент может напороться на немцев, поэтому безопаснее (не безопасно, а безопаснее) находиться позади роты. И Цветков — в роли замыкающего. Поотставший пятидесятилетний солдат Чумак говорит Цветкову и прибежавшему ординарцу Васюкову: «Пусть бы вы шли. Я уж сам как-нибудь». На что Цветков отвечает: «Ну да! Мы пойдем, а ты в кусты? Знаем таких». Потом, после боя, командир роты прикажет Цветкову проводить группу раненых и пленного до речки, но он, чувствуя приближающуюся опасность, будет норовить уйти с группой в тыл. Ординарец Васюков воспрепятствует этому, однако потом, когда над ротой действительно нависнет смертельная опасность, сноровистый санинструктор, воспользовавшись благовидным предлогом, все-таки улизнет. Такой продуманности поведения ожидать от труса в первый год войны не приходилось.
Но Цветков у Быкова не просто трус, он трус именно того периода войны, когда война, не перестав быть бедствием, стала уже бытом. В начале войны трус первым поддавался панике и очень часто первым же погибал. Теперь трус приспособился, теперь он не побежит с поля боя при первой опасности, потому как понимает: смерть, она одинакова, что на «чужом» краю поля, что на «своем». Теперь у труса своя тактика, точно согласованная с характером времени.
А вот рядовой Чумак выглядел если и не трусом, то никчемным воякой. Во время марша он постоянно отстает, в атаке тоже не очень-то расторопен, а когда рота вынуждена была срочно оставить позиции, замешкался и угодил в плен. Для роты Чумак — сущее наказание. Да, но ведь и для Чумака рота — тоже наказание. «Значит, так,— рассказывает он о себе,— сначала я в транспортной роте был. Ну, старшина строгий попался, придираться начал. Перевели в комендантский. А из комендантского, как под Дроздами неуправка вышла, то к вам направили. Кто уцелел, потом назад разобрали. А меня вроде забыли, что ли». Чувствуете обиду?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: