Алесь Адамович - Кузьма Чорный. Уроки творчества
- Название:Кузьма Чорный. Уроки творчества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1977
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алесь Адамович - Кузьма Чорный. Уроки творчества краткое содержание
Кузьма Чорный. Уроки творчества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но для нас тут не менее важно другое: возможность через это безусловное соседство «выводить линии» (как говорит Чорный) ко многим явлениям мирового масштаба. Потому что Достоевский — такой «узел», от которого прямо ведут дороги к самым крупным явлениям в мировой литературе.
В двадцатые годы многим еще могло казаться, что единственно важное — это проложить в жизни могучее, объективно правильное экономическое русло, а человек сам приспособится и соответственно изменится. Нет будто бы никакой необходимости углубляться в человека, учитывать какие-то особые сложности человеческой психологии.
А между тем еще Энгельс считал нужным предупреждать, что «Дело обстоит совсем не так, что только экономическое положение является причиной, что только оно является активным, а все остальное — лишь пассивное следствие. Нет, тут взаимодействие на основе экономической необходимости, в конечном счете всегда прокладывающей себе путь» .
Сегодня острей, чем когда-нибудь, все ощущают, что корабль земной цивилизации угрожающе содрогается от ударов могучих волн — человеческих страстей и массовых психозов, которые не раз сотрясали мир.
За человеческими страстями стоят вполне определенные политические, экономические и социально-исторические предпосылки и процессы. Но страсти потому и страсти, что они, вспыхнув, живут и бушуют по законам человеческой психологии. И законы эти сегодня изучать особенно необходимо. Научное изучение человеческой психологии, индивидуальной и массовой,— задача не менее актуальная, чем попытки научного синтеза белка или «приручение» термоядерной плазмы. Такое изучение опирается на мировую литературу, искусство, и сама наша современная литература как-то включена (а должна быть больше включена) в это дело.
Если иметь в виду белорусскую литературу, то К. Чорный и в этом смысле очень современный писатель. Он изучал человека с такой страстной научной последовательностью и точностью, как никто другой у нас.
Когда мы говорим о смелом раскрытии человеческой психологии в современной мировой литературе, необходимо учитывать влияние и тех писателей, которые особенно обостренно изображают и вскрывают то, что получило вслед за К. Марксом название «отчуждения».
Мы говорим не про ту продукцию, где сознательно, с коммерческим расчетом пропагандируются зло и враждебность людей как извечная норма человеческого существования. Это — за гранью литературы.
Но есть серьезная литература, имеющая значительных представителей, литература, которая способна играть не только отрицательную, но и положительную роль в современном мире (как французская экзистенциалистская литература в годы фашистской оккупации) и которая тем не менее в чем-то очень существенном означает разрыв с гуманистическими традициями классики.
Как растительный мир создает, собирает вокруг нашей планеты необходимый для жизни кислород, так классическая литература, искусство окружают человека и человечество невидимой, но постоянной атмосферой гуманности, человечности, взаимопонимания. Искусство накапливает, собирает человека в человеке, оно проделывает громадный труд по гуманизации мира.
Интересны в этом смысле воспоминания Миндлина о Паустовском: «Я спрашивал: где видимые результаты воздействия искусства на поведение людей? Что изменило явление гениев в нравственной жизни человечества?
Паустовский в гневе отодвинул от себя недопитый стакан кофе. Никогда до этого я не видел его таким разгневанным... Сурово, хрипловатым голосом он спрашивал, осуждающе смотря на меня:
— Разве можно представить себе, что за жизнь была бы теперь, какими были бы люди, если бы не Бетховен, Рембрандт, Толстой! Разве мир смог бы объединиться против фашизма, если бы в мире не было Толстого, Гете, Бетховена, Леонардо! О, если бы еще больше прислушивались к этим великим — к Данте, Шекспиру, Сервантесу, Чехову, Достоевскому, Баху, Чайковскому, Левитану, если б еще лучше научились слышать и видеть землю, небо, деревья, травы, цветы, озера, реки, моря,— мы стали бы нравственно еще совершеннее» [8].
Можно представить, как нормальным современным людям страшно было бы остаться в мире, лишенном вдруг этой «атмосферы». Опыты уже были — фашизм. Сегодня — маоизм.
Сколько раз уже это было, когда демагоги соблазняли человека почти тем же способом, что и ординарный черт Ивана Карамазова: «Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги» .
И вот именно в наш век, когда так необходим «кислород» человечности, взаимопонимания, когда отчуждение человеческое угрожает самой цивилизации, возникает литература — и она охватывает значительную площадь всего «литературного покрытия планеты»,— литература, в определенной степени лишенная той пышной поэтической кроны, которая как раз и вырабатывает «кислород» человечности — взаимопонимание, чувство контакта.
Получается заколдованный круг: в обесчеловеченном мире милитаризма и фашизма возникает литература с пониженной верой в человека, в его разум, тогда как именно в такое время особенно необходимо собирать, выращивать человеческое в человеке, гуманизировать мир.
Как в заводском парке, где засыхают, чернеют сосны — им не хватает кислорода, и сами эти деревья также уже меньше вырабатывают его, столь необходимого кислорода. Это — одна из трагедий нашего мира.
Нужно понимать и этих писателей, и эту литературу. Сосна все же растет, даже в задымленном воздухе, и хотя не пышная, но все же зелень ее напоминает о лесе, о дыхании полной грудью.
***
Достоевский, возможно, первый в XIX веке поставил вопросы: прогресс — хорошо, но что если он вовсе и не предназначен человечеству, тогда как? С чем в душе останется человек, если окажется, что все пойдет не так, как нарисовали социалисты-утописты? Достоевский немало экспериментировал в этом направлении в своих произведениях. Схема его психологического эксперимента приблизительно такова: а) идея социального прогресса делает ненужной, вытесняет идею бога, религиозную мораль; б) сама эта идея терпит крушение; в) человек или возвращается к богу, или гибнет, взорванный изнутри силой освобожденных со дна души жестоких разрушительных инстинктов.
Гибнет Иван Карамазов, гибнет герой романа «Бесы», и в каждом случае Достоевский снова возвращается назад, к сомнению, потому что окончательно проблему мог решить не психологический эксперимент, а только сама история.
Но проблема уже была поставлена — и именно Достоевским.
Решить же ее способна только история. Решает она и сегодня.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
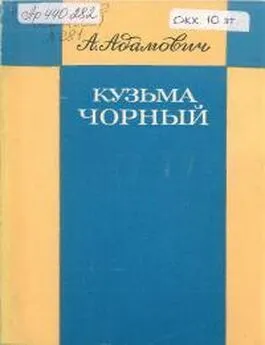




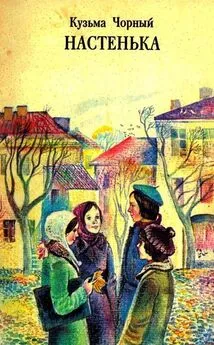
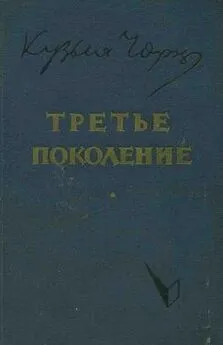
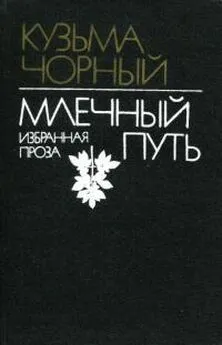
![Алесь Адамович - Каратели [litres]](/books/1078597/ales-adamovich-karateli-litres.webp)

