Алесь Адамович - Кузьма Чорный. Уроки творчества
- Название:Кузьма Чорный. Уроки творчества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1977
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алесь Адамович - Кузьма Чорный. Уроки творчества краткое содержание
Кузьма Чорный. Уроки творчества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Рыжий хозяин вдруг догадался, что они заберут больную с собой.
«— Братки вы мои... Я хоть побегу ворота вам открою...»
Да, человек — хоть и существует смерть, страх смерти — может остаться человеком. И должен им оставаться.
Все, что есть, что бывает, что открывается в человеке в исключительные моменты, К. Чорный двадцатых годов умеет видеть и показывать с беспощадностью подлинного реалиста.
Однако он ищет не зверя, а прежде всего человека в человеке. Ибо человеческое сильней. В одном из последних произведений, в романе «Поиски будущего», даже увидев, что такое человек, когда он делается фашистом, К. Чорный, как бы споря с самим собой и с жестокой реальностью, вкладывает в уста старого крестьянина упрямые и горячие слова: «Веришь ли ты, что человек не выдерживает, чтобы вечно быть зверем? Вырви ты у человека сердце и вставь на его место звериное, так в человеческой груди и звериное сердце станет человеческим».
МЫШЛЕНИЕ ХАРАКТЕРАМИ, ТИПАМИ, ИСТОРИЕЙ
Молодой К. Чорный, особенно в 1925— 1927 годах, был увлечен художественной задачей показать, раскрыть всю сложность, противоречивость человеческих ощущений, поведения.
Но при всей «текучести» и противоречивости человеческих чувств существует в жизни такая определенность, как характер, индивидуальность. Устойчивость черт, качеств психологической жизни также правда, и не менее важная, чем правда неуловимых и изменчивых оттенков ее. Без нее невозможно в литературе такое явление, как художественный тип.
Умение создать типы — качество, присущее той литературе, которую мы называем классической. Это всегда интересовало и увлекало К. Чорного в произведениях Достоевского, Толстого, Горького, Бальзака, Золя, романы которых привлекают его в двадцатые годы.
Однако у К. Чорного двадцатых годов есть произведение, в котором особенно выразительно и успешно проявилось стремление белорусского прозаика создать крупный характер, тип. Мы имеем в виду повесть «Левон Бушмар», с которой и начинается галерея «чорновских» характеров-типов.
Левон Бушмар — все тот же персонаж К. Чорного двадцатых годов, в душе которого «кипят чувства».
Как дико ревнует Амилю, а потом вторую жену Гелену ко всему миру этот хмурый и, казалось бы, совсем бездушный человек! Вот он схватил за пояс и «перебросил через плетень районного начальника» который «что-то приглядываться начал к Гелене».
Бушмар то «как зверь», то «как дитя» в своих чувствах и поведении: дикий и беспомощный, он безоглядно бросается за первым ощущением, которое в нем пробуждает другой человек или какое-нибудь событие. «Как буря»,— говорит о нем писатель. Всякое чувство, мысль, неожиданное ощущение в этом, на внешний взгляд застывше-замкнутом, человеке может быть толчком к самому неожиданному поступку.
Острота ощущений, противоречивость, текучесть, изменчивость настроений в человеке по-прежнему интересуют К. Чорного.
Но теперь для него особенно важно увидеть и показать, как это «собирается» в характер, в индивидуальность, в человеческий тип. Как «кипение чувств» выражается в поведении. Как оно связано с миропониманием и с местом человека в жизни среди других людей.
Было это в той или иной мере и в прежних произведениях.
Но здесь — сознательная художественная и открыто исследовательская задача: изображая определенный человеческий характер, увидеть и показать, откуда он, на чем вырастает, куда развивается в тех обстоятельствах, которые сложились в конце двадцатых годов.
Раньше К. Чорного почти целиком увлекала художественная задача: прочитать запутанную кардиограмму сложнейших человеческих настроений и ощущений. Теперь с такой же страстностью исследователя он стремится установить связь между этой «кардиограммой» и «внешней средой», понять, как формируется человеческая натура — ее устойчивость, определенность ее главных черт.
Не будем спорить (как это излишне часто делалось когда-то), насколько точно и полно определил К. Чорный истоки нелюдимо-собственнической натуры Левона Бушмара: извечная дикость природы, среди которой он жил, хуторское одиночество, опыт и жизненная философия отца-хуторянина и т. п. К этому надо относиться, как мы относимся к «философии истории» в «Войне и мире» Толстого или «философии наследственности» в «Ругон-Маккарах» Золя. Главное содержание в таких произведениях диктуется всей системой характеров й событий, а не только авторскими комментариями.
Тем не менее и философские отступления, а точнее, «подступы к натуре» Левона Бушмара — нельзя не учитывать. Тем более что многие из них — не только размышления, а очень «настроенческие» куски художественного текста: «Человеку трудно переделаться сразу. Можно думать и говорить иначе, а сам человек долго будет прежним. Так же как летят каждый год, как только замокреет весенний снег, гуси над Бушмаровым селением, так же как отлетают они над этими лесами обратно, лишь только потемнеет от старости на жнивье белая паутина,— так своими дорогами будет ходить человек, пока весь выйдет на дороги иные».
Это не просто «теоретизирование», а страстная убежденность, выношенная, полемическая своя мысль.
К. Чорный, создавая повесть, настолько был увлечен примером классической литературы, которая «думает, мыслит типами», что с некоторой даже поспешностью сам превращает фамилию Бушмара в обобщенное понятие, говорит о «бушмаровщине». «Само слово «Бушмар» было уже каким-то обидным. Оно каждому говорило о зверской бесчеловечности, об издевательстве над всем, что не его, над тем, кто не сам он; о том, что не может вокруг него, пока он властвует, пройти так, чтоб не было обиженных, чтоб не было слез людских».
Да, это было бы даже чуть поспешным — самому называть своего героя «типом», если бы Чорному не удалось создать на самом деле крупный художественный тип и если бы в читательском сознании он не становился в самом деле рядом с «головлевщиной», «артамоновщиной», «гобсековщиной».
И если бы, добавим, не делали этого и до него: тот же Достоевский в «Братьях Карамазовых», анализируя такое явление, как «карамазовщина» («...У тех Гамлеты, а у нас еще пока что Карамазовы» и т. д.).
Кстати, и у Чорного именно на суде формулируют, обобщая смысл «бушмаровщины»: «О Бушмаре тогда обвинитель говорил долго:
«Бушмар — результат окончательный, логический итог лесного вековечного хутора. Это зверь, вокруг которого должны быть обиженные. Иначе нельзя, пока живет на свете Бушмар. Окружающий лес и дикий кустарник владеют Бушмаром, а через него извечная природная дичь пробует овладеть всеми окрестными людьми... Бушмаровский порядок — это западня и вечная война, потому что даже со своим, можно сказать, идейным братом — Винцентом — и то у него был смертельный спор. У зверей всегда даже в одном логове война... Вот он живет на свете, живет извечно, делает даже историю своего времени, историю обиды слабейших, которые обижают еще более слабых... Человеческая история бесчеловечности! Где плодятся звери и возле них черви!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
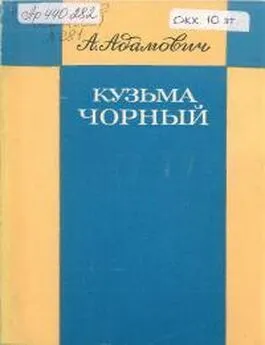




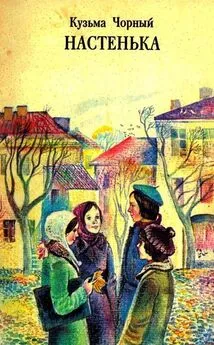
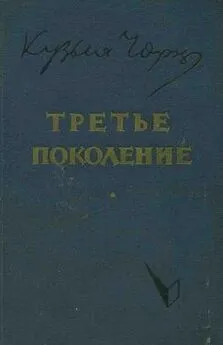
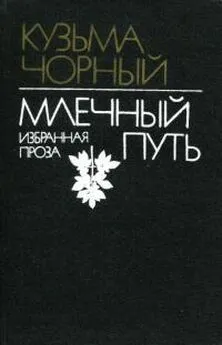
![Алесь Адамович - Каратели [litres]](/books/1078597/ales-adamovich-karateli-litres.webp)

