Алесь Адамович - Кузьма Чорный. Уроки творчества
- Название:Кузьма Чорный. Уроки творчества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1977
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алесь Адамович - Кузьма Чорный. Уроки творчества краткое содержание
Кузьма Чорный. Уроки творчества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Рассказывая сыну о своей солдатчине, о фронте, о том, как вынес он из окопа раненого полковника, Тодорович говорит: «Я лучше голодный посижу, а копейки не истрачу. Если нет работы, я стану, протяну руку и у людей попрошу, лишь бы мне каждый день хоть крошку кто-нибудь добавил к тому, что в брючном поясе зашито. Потому что придет время, после войны, когда спокойно можно будет вернуться домой. Там пять десятин земли, своей собственной (бумага за пазухой) ждет».
Писатель показывает человека, который весь захвачен «идеей», и изображает его с симпатией. Вот так рассказывает он и о Леопольде Гушке. И совсем иначе — о Фартушенко или Хурсе, так как их «идея» не просто ошибочная, а хищническая: она направлена против интересов трудового человека, народа.
«Идеи» в романах Достоевского перекрещиваются и горят, как мечи на поле битвы, побеждают аргументами и страстью (спор Ивана и Алеши Карамазовых о боге или споры с «нигилистами» в «Идиоте» и «Бесах»). Достоевский, видимо, охотно привлек бы на помощь своим любимцам Алеше Карамазову или князю Мышкину историю, если бы она могла послужить аргументом. Но в тех столкновениях, битвах идей, что кипят в его романах, история не могла еще сказать своего заключительного, «под занавес», слова: все перевернулось, укладываться только начинало.
Другое мироощущение и другие отношения с историей у Чорного — человека и писателя той эпохи, когда марксизм и революционная история народов бывшей царской империи уже дали ответ на многие вопросы и «идеи», которые волновали раньше или продолжали волновать близких Чорному людей труда и самого писателя-гуманиста. История для К. Чорного — союзница идеологии, ибо время работает на эту марксистскую идеологию. И закономерно, что история так легко входит в романы К. Чорного, делается для него главным аргументом «за» или «против» жизненных принципов Гушки, Клавы Снацкой, Скуратовича, Творицкого и других героев.
В повести «Левон Бушмар» человек рассматривается на фоне лесного хутора, он часть дикой извечности.
В романах «Тридцать лет», «Третье поколение», в повести «Люба Лукьянская» человек существует уже не просто на фоне истории, он включен в историческую жизнь белорусского народа. Он мозаичная частичка исторической картины; такая тесная, как в этих произведениях, связь человека и истории была до тех пор еще незнакома белорусскому роману.
Но в «Отечестве», например, замечаются и крайности: человек почти полностью сливается со своим социальным фоном, обнаруживает общие черты своей среды чрезмерно общо, без той «игры случайностей», «несимметричности», которые являются первыми признаками реальной жизни.
В романе «Отечество» сцены и картины написаны с таким «размещением» персонажей, чтобы сразу было видно, кто кому служит или прислуживает. «В церкви кончилась служба. Народу было полно. Поп в ризах стоял на крыльце ратуши с крестом в руках. Отважный пристав стоял рядом с ним. Сурвильчик держал в руках какую-то бумажку, ожидая момента, чтобы начать читать. Вдруг Леопольд Гушка сжал зубы, заметив: у пристава за плечами неподвижно держалось усатое лицо Сурвильчика».
В этой наивности композиции была своя свежесть, «былинность», эпичность. «Народ стоял перед крыльцом ратуши. Попик говорил «напутственное» слово новым воякам. Толпа в эту минуту молчала. Посконина, сермяга, войлочная кудель, лыко свивались в плотную стену. Глаза, глаза, глаза — мучительный взгляд онемел на лице большой толпы.
Это был рисунок того дня по всей Европе. Народы стояли. Стоял российский народ».
Роман «Отечество» в определенном смысле произведение переходное в творческой биографии К. Чорного, даже экспериментальное. Если на первом этапе (в середине двадцатых годов) К. Чорный стремился передать всю текучесть психологической жизни человека, а в повести «Левон Бушмар» старался изобразить характер-тип, ища живую связь между «текучим» и «извечным», то в этом романе поиск идет уже в направлении социально-исторической реальности, которая должна обусловить и характер человека в целом, и самое «случайное» его настроение. Именно так создается образ Леопольда Гушки — фигуры в чем-то былинной и монументальной в его упрямой борьбе с недолей, судьбой «родовитого батрака».
К. Чорного в «Отечестве» искренне увлекали сами поиски в каждом человеке социальных черт и их связи с историей народа. Почти каждая деталь несет на себе следы таких поисков.
Крестьянин идет старинным трактом и несет «уздечку с ржавыми удилами». Почему «ржавыми»? Потому что — бедняк, а тот конь, с которого она была снята последний раз, видно, никогда не взнуздывался.
Иллюстративность многих образов и сцен в «Отечестве», безусловно, повредила произведению. И все же этот роман К. Чорного согрет поисками мастера-новатора, который учится за индивидуальной судьбой видеть историю, судьбы целого народа. Историзм весьма укрупнял художественные типы К. Чорного тридцатых годов.
К сожалению, историзм ослаблялся (если не кончался) на самом пороге той современности, о которой романист хотел рассказать почти в каждом своем романе. Будто на самом деле на все вопросы история уже ответила, все проблемы решила, все кризисы, общественные и психологические, остались позади. Только уничтожить отдельные «пятна», а дальше какая-то «нирвана» — застывшее умиление. «На столе лежало золото. Целое состояние! Зося холодно смотрела на узелки. Ни у кого из присутствующих нельзя было заметить выражения жадности, ни у кого глаза не загорелись при виде золота. Никто не стремился схватить деньги, спрятать их у себя, скрывать от посторонних... «Ведь они в самом деле такие, эти люди»,— подумал Творицкий. Даже портной (его Творицкий узнал сразу) — и тот стоял спокойно, курил папиросу и не удивлялся неожиданному появлению здесь Творицкого. Портной изменился! Если бы он хоть как-нибудь обнаружил прежние черты своего характера, это могло бы послужить кое-каким оправданием остаткам старых идеалов Михала Творицкого. То, что еще оставалось в Творицком от прежних его идеалов, цеплялось за все темные уголки человеческой души, искало сочувствия в выражении лиц и глаз. Сам того не замечая, Михал перевел глаза на портного, будто надеясь, что тот скажет хоть слово в оправдание узелков с монетами, лежавших на столе. Но портной, в напряженной тишине, спокойно докурил, посмотрел кругом (ясно, искал пепельницу, чтобы положить окурок) и тогда только прервал молчание:
— Так это, значит, Творицкий?
После этого все заговорили. Многие вернулись в комнату, к накрытому столу. Сердце у Михала Творицкого покатилось куда-то вниз. В тот момент на душе у него стало страшно пусто. Душа на какое-то мгновение словно опустошилась, чтобы затем снова быть готовой для наполнения».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
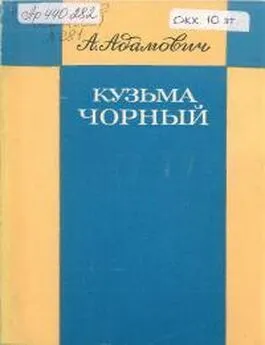




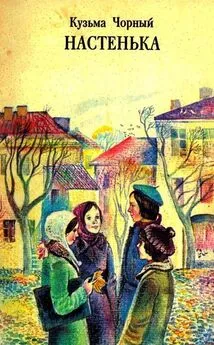
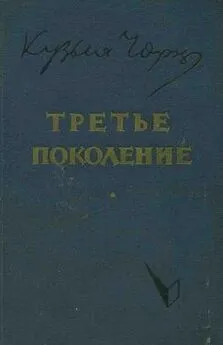
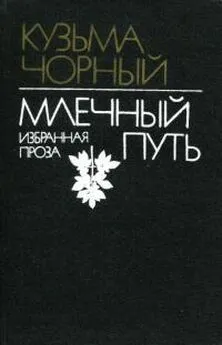
![Алесь Адамович - Каратели [litres]](/books/1078597/ales-adamovich-karateli-litres.webp)

