Алесь Адамович - Кузьма Чорный. Уроки творчества
- Название:Кузьма Чорный. Уроки творчества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1977
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алесь Адамович - Кузьма Чорный. Уроки творчества краткое содержание
Кузьма Чорный. Уроки творчества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На дорогах ставят знаки, которые делаются видимыми, «прочитываются», если их осветить внешним светом. Так и у Чорного некоторые приемы, места «прочитываются», только если их «осветить» Достоевским. И тогда мы заметим у Чорного то, что сначала не замечалось. Мы приводили примеры с групповыми сценами. Можно и другие места «подсветить» Достоевским, чтобы увидеть их второй литературный план, лучше ощутить подлинное богатство философской мысли К. Чорного.
Вот красноармеец Назаревский разговаривает с женой Скуратовича:
«Женщина заговорила снова:
— Я вот только не понимаю, товарищ... конечно, мы, сказать, простые люди, мы спрашиваем про все. Зачем трогать религию? Царя скинули, панов прогнали, ну, хорошо. Ну а религия? Все же без религии человек как зверь будет, если он не чувствует над собой бога. Человек должен иметь в сердце какое-то милосердие к другому человеку. А без бога — как же он будет?»
«Второй план» этого разговора — спор с постоянной болезненной мыслью Достоевского, что, если «порешив бога», человек начнет жить по принципу: «все позволено!» И снова основной аргумент К. Чорного — сама история, революция, которая «отменила бога» не во имя бесцельного анархизма, а с тем, чтобы человек сделался сознательно творцом счастья на планете.
Или другой пример. В повести «Люба Лукьянская» мы видим, как героиня превращается постепенно в человека, способного глубоко осмыслить, анализировать свои ощущения и поведение. «Это привычка (думает она о своей работе на фабрике.— А. А.). Но не могла же я, однако, привыкнуть к гнилым стенам. Значит, не ко всему человек привыкает».
К. Чорный, безусловно, помнит, когда пишет это, о таком взгляде на человека, его «природу»: «Ай да Соня! Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец человек привыкает!»
И снова:
«Человек есть существо, которое ко всему привыкает, и, я думаю, это самое лучшее его определение».
Народные революции, как ничто другое, опровергают такой безрадостный, безнадежный взгляд на человека. А творчество К. Чорного пронизано преобразовательным пафосом революции. Вот почему не только отдельными полемическими местами, размышлениями, но и всем творчеством своим К. Чорный утверждает: как ни пугает человека труда, крестьянина все новое, но и к старому он не привык и не мог привыкнуть за всю историческую жизнь, как не может человек привыкнуть к голоду. И потому он такой беспокойный, герой К. Чорного, такие бури гремят в глубинах его души.
Мы говорим о близости некоторых особенностей, черт творчества К. Чорного к традициям, связанным с Достоевским. Необходимо, однако, все время иметь в виду, что очевидная сопоставимость творческих интересов, пристрастий и манер в литературе вовсе не обязательно означает «согласие», «подобие». Часто это близость полемическая, «близость-спор», несогласие постоянных (и в этом смысле «близких») оппонентов. Это так. Но что именно Достоевский наиболее постоянный собеседник или оппонент К. Чорного — это тоже факт.
Второй, третий план, который создается мысленной беседой или спором с Достоевским, в тексте К. Чорного открывается на каждом шагу.
Дети, их неизмеримые страдания — вот главный и неоплатный «счет», который предъявляет «железному зверю» — войне и фашизму — Кузьма Чорный. И тут он идет до конца, не соглашаясь ни на какие «сроки давности». Он открыто спорит с Достоевским, когда тот становится на сторону старца Зосимы и безуспешно старается уговорить Ивана Карамазова, читателя и самого себя примириться с «будущей гармонией», где даже слезы «перельются» в тихое умиление и где жертва и убийца в одном хоре пропоют хвалу мудрости божьей...
У Достоевского притча об Иове, которого бог «испытывает» тем, что убивает его детей, заканчивается таким вот «гимном»: «восстановляет бог снова Иова, дает ему вновь богатство, проходят опять годы, и вот у него уже новые дети, другие, и любит он их — господи: «Да как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде с новыми, как бы новые ни были ему милы?» Но можно, можно: старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость...»
У К. Чорного другой ответ на эту притчу. Но ответ этот прочитывается более полно, когда мы замечаем «собеседника», «оппонента», слышим одновременно и голос старца Зосимы — о «тихой умиленной радости».
В романе «Большой день» простой крестьянин пересказывает ту же притчу об Иове, и мы верим, что только так мог высказать всю меру горя, отчаяния и ненависти этот человек, на глазах которого фашист раздробил о камень голову его сына. Он говорит об этом случайному незнакомцу, но ему нужно, чтобы услышал весь мир, он кричит об этом всем людям, сегодняшним и завтрашним,— вот для чего вдруг ему необходима стала библейская притча. «Ксендз с амвона рассказывал, как бог испытывал веру Иова. Он напустил на него всяческие несчастья... Он знал, что бог его так карает, но продолжал молиться богу, и хвалил бога, и не роптал, не поднял слова на бога. Бог за это вернул ему все... и дети у него другие родились, как раз столько, сколько было тех, что умерли. И это же тысячи лет говорится людям, и неужели никто не подумал ни разу, что нельзя так говорить человеку, потому что это великая неправда... Если бы я завел другую семью и если бы снова вернулась ко мне моя жизнь — и чтобы дом новый, и чтобы хлеб свой, и чтобы снова сын маленький выбегал мне навстречу, так в доме я могу и другом жить, на коне я могу и другом ездить. А дитя мое — ведь оно жило, смотрело на мир, знало, что я его батька! Дитя-то будет другое, а не то, которое испытало муку, и мука эта осталась на веки вечные, потому что так это было и никто уже не сделает так, что его не было».
Вот такое «подсвечивание» или «просвечивание» Достоевским не только помогает вчитываться в отдельные фразы, места, лучше понимать художественные приемы К. Чорного, но и сам жанр его романов и повестей. Да, и жанр. Легче ощутить своеобразие «Третьего поколения» как романа, если помнить о социально-философском «детективе» Достоевского «Преступление и наказание». Учитывая, от чего отталкивался К. Чорный, лучше ощущаешь, а что́ именно «чорновское» в жанре «Третьего поколения»: стремление определить, проследить не только «идейные», как у Достоевского, мотивы «преступления», но и «историю души» человеческой, связанную с историей самого народа, а отсюда — «эпизация» сюжета, поиск «корней» в прошлом, в социальном и историческом бытии народа.
Своя полемичность наблюдается и в жанре «Любы Лукьянской». В произведении этом К. Чорный достаточно открыто использует традиционный сюжетный план авантюрно-приключенческой повести, особенности которой легко замечаются и в произведении Достоевского «Униженные и оскорбленные»: дитя «знатных родителей» проходит все круги нищенства и невзгод, людских издевательств...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
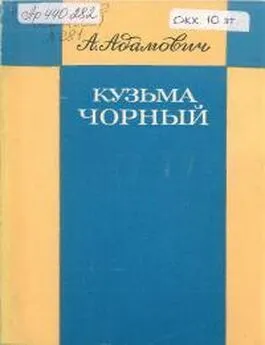




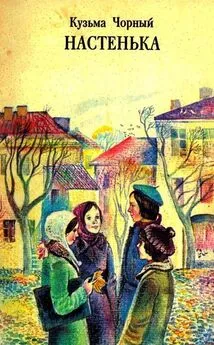
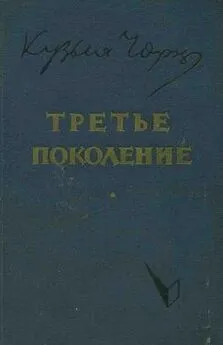
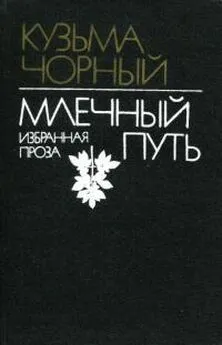
![Алесь Адамович - Каратели [litres]](/books/1078597/ales-adamovich-karateli-litres.webp)

