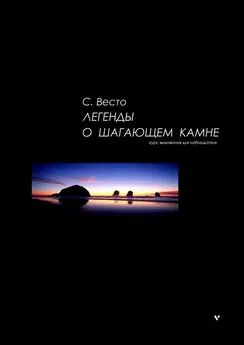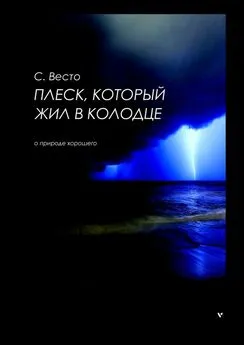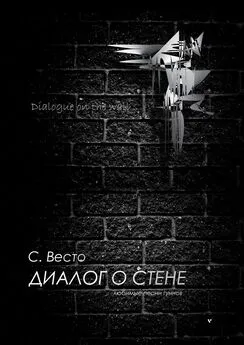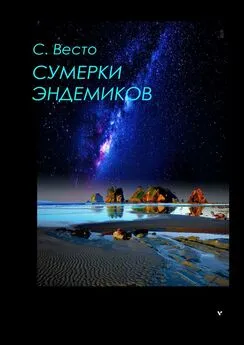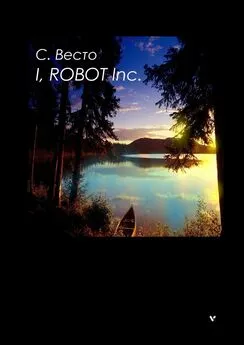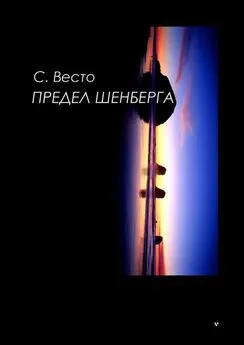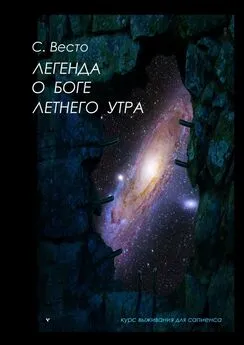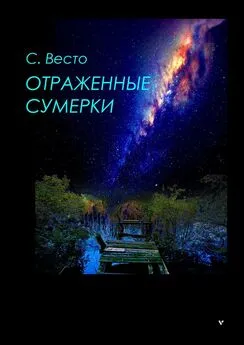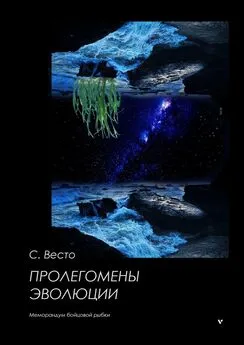Сен Сейно Весто - Легенды о Шагающем камне. Курс выживания для наблюдателя
- Название:Легенды о Шагающем камне. Курс выживания для наблюдателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448387876
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сен Сейно Весто - Легенды о Шагающем камне. Курс выживания для наблюдателя краткое содержание
Легенды о Шагающем камне. Курс выживания для наблюдателя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Далее, согласно логике собственного же изложения, как можно предположить, следовало бы предпослать естественный переход к оживленной дискуссии насчет религиозного преподавания в рамках единой общеобразовательной системы детям всего коренного этнического состава Восточной Федерации (кажется, говорить отдельно нет необходимости, какой именно вид конфессиональных воззрений предполагалось для них ввести), но это неинтересно даже как социальный тип мышления. Каким-то ослом с достаточной фамилией выдается всем на доскональное обозрение первая же пришедшая ему за утренним моционом в туалете мысль – все немедленно бросаются, спотыкаясь и расталкивая друг друга локтями, ее трезво, тщательно, всесторонне и непредвзято обсуждать, млея от самой возможности все вместе обсуждать что-то с заранее ясным исходом и заставляя потеть с ними героя дня. Теперь перед ними со всей неотвратимостью встает вопрос: чего обсудить еще.
Один пример – как бы в скромной попытке показать, насколько зачастую немного смысла бывает в старании выжить у того, кто еще не прошел их курс лечения, и чт ов тех же официальных изданиях делает самосознание конкордата с мыслью тысячелетий – мыслью не своей, мыслью необратимо чужой, но известной настолько, что там очень скоро начинается усиленное ерзанье с собиранием свидетельств, что и вот эта территория уже помечена ими раньше других. У римского стоицизма не раз можно встретить расхожий оборот вроде «поклоняться божественному, божеству», «поклоняться богам». Понятно, что ни о каком монотеизме в то время речи идти не могло. Попробуйте предсказать, какой вид то же самое будет иметь в версии издания конкордата пн. Ну конечно, «поклоняться богу» – легко догадаться, какому.
И с литер самых передовых, крупных, так, чтобы никто не ошибся. Интересно задержаться и попробовать посмотреть, что за заданной культурной нормой стоит. Таким образом, начиная с этой отметки истории уже нет оснований усомниться, о ком у прославленных мужеством античных богов должна была болеть голова – тепло и нежно. Из всего пантеона богов даже Юпитер как креативное начало никак не соотносился с известными потребностями христианства, но ему всякий раз приходится призывать на помощь все стоическое мужество, соприкасаясь с каждой следующей христианской редакцией, чтобы сохранить обычное каменное выражение хладнокровного хранителя космических глубин. «Господь – это тот наставник, что таланты выводит из неизвестности». Тертуллиан приводит эту фразу Сенеки Мл. как живописную иллюстрацию, чем жила и прерывно дышала беспокойная мысль античной культуры.
Фраза эта так ему понравилась, что он забыл указать, что у Сенеки в трактате «О благодеяниях» речь шла о Юпитере. Но и это еще не все: занесем фразу в оперативную память, она еще себя покажет. Та же максима в силу то ли своей несложности, то ли доступности наносит религиозному сознанию такой удар вдохновения, что тот сегодня временами бросается заканчивать себя целым зданием философии насчет когда, как и где следует развешивать собственные сладкие бублики, с тем чтобы никто не ошибся, в какой стороне расположен далекий свет истины.
Если еще раз вернуться к теме загадочной акселерации отдельных литер в местной литературе: в результате известных усилий в свое время компетентными лицами там даже был клонирован специальный термин. Произносится как «поиск бога». Это интересно, как говорили самураи. Именно он был призван объяснить и расставить в этом мире едва ли не все. Другими словами, мудрость древних миров не могла быть больше занята ничем, но лишь поиском именно их предпочтений. Преемственность эпох. И в самом деле, стоило видеть, с каким порывом вдохновения отправились они искать его всюду, где только абзац предоставлял им такую возможность. Здесь как раз то, за что всегда с недоверием относились к шлюхам от филологии. И это понятно. Непонятно только, откуда у пантеона античных лиц могли взяться такие искания, когда не пахло еще никакими откровениями, а массовые чтения евангелий заменяли на массовые гонения их дистрибьюторов; когда первых христиан скупые на доброе слово римские легионеры отстреливали из одних только соображений чистого пространства; и это тогда, когда Маркус Аврелиус (посмертный титул: «бог благосклонный») лично снаряжал и благословлял на нужды такой экономии экспедиции, а то, что потом от них оставалось, цепями и крючьями доставали из подвалов тюрем.
…А потом приходишь ты, чтобы, обратившись, скажем, к подробным комментариям к трактату какого-нибудь Ницше, там, «сзади», это где поближе к обложке, очень скоро начать про себя удивляться щедрому, едва ли не построчному сопровождению его мыслей аналогиями и параллелями, весьма приятными «подавтору» и еще более приятными подредактору, как бы увиденными составителем соотносительно с текстами библии. («Ср.», «ср.», «ср.», «ср.»… Если я правильно разобрал, предлагается «сравнить» что-то с чем-то. Ослик бы умер от приятного удивления.) Я извиняюсь за длинный неподъемный слог, но меня это уже слегка достало. Ты перелистываешь и думаешь, почему все так сложно. Спрашивается, почему ему можно это печатать, а мне нет. Далеко не сразу до тебя доходит, что таким образом в широком ассортименте представлялись свидетельства, буквально с фактами на руках, как сам прославленный автор – речь, конечно, о Ницше – шаг за шагом кропотливо открывал в себе все новые источники вдохновения и где он их брал. «И иш-шо одна аберрация…»
Потом до тебя доходит то, что ты уже на подходе инстинктом понял еще на уровне подсознания, но еще не пытался членораздельно оформить в форме непечатных выражений. Там написали, как тебе надо правильно думать.
Руссияне больше не стесняются. Вопрос и в самом деле становится интересным: чем скучающий психолог и психолингвист объяснит всеобязательное увеличение самой первой русской буковки «бэ» в слове «бог», как только за теорию и практику перевода берется русский представитель? Хорош вопрос не тем, что он доставляет какое-то особенное удовольствие, а потому, что, как я подозреваю, этого никто больше уже не сделает. Такого скрупулезнейшего, поистине беспрецедентного внимания к антропологическому аспекту орфографии данного слова не найти больше нигде. Его нет в греческом, французском, английском и скандинавских языках. В немецком, как известно, все существительные пишутся с заглавной. Честное слово, кто хоть раз задумывался над этой маленькой особенностью данной культуры, ничего не ценящей так, как состояние отстойного покоя и «чтобы ничего не менялось», того не покидало подозрение, что он случайно соприкоснулся с какими-то из наиболее глубинных и архаичнейших слоев их сознания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: