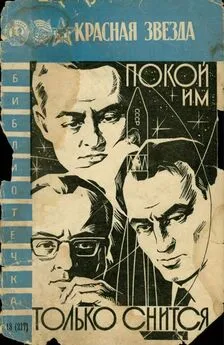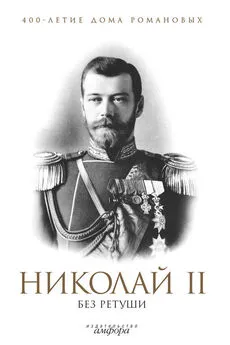Николай Мельников - Классик без ретуши
- Название:Классик без ретуши
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-089-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Мельников - Классик без ретуши краткое содержание
В книге впервые в таком объеме собраны критические отзывы о творчестве В.В. Набокова (1899–1977), объективно представляющие особенности эстетической рецепции творчества писателя на всем протяжении его жизненного пути: сначала в литературных кругах русского зарубежья, затем — в западном литературном мире.
Именно этими отзывами (как положительными, так и ядовито-негативными) сопровождали первые публикации произведений Набокова его современники, критики и писатели. Среди них — такие яркие литературные фигуры, как Г. Адамович, Ю. Айхенвальд, П. Бицилли, В. Вейдле, М. Осоргин, Г. Струве, В. Ходасевич, П. Акройд, Дж. Апдайк, Э. Бёрджесс, С. Лем, Дж.К. Оутс, А. Роб-Грийе, Ж.-П. Сартр, Э. Уилсон и др.
Уникальность собранного фактического материала (зачастую малодоступного даже для специалистов) превращает сборник статей и рецензий (а также эссе, пародий, фрагментов писем) в необходимейшее пособие для более глубокого постижения набоковского феномена, в своеобразную хрестоматию, представляющую историю мировой критики на протяжении полувека, показывающую литературные нравы, эстетические пристрастия и вкусы целой эпохи.
Классик без ретуши - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Столь же недвусмысленно высказался о «Просвечивающих предметах» и Питер С. Прескотт (сын того самого Оливера Прескотта, некогда разругавшего в пух и прах «Лолиту»): «В новом романе Набокова, вышедшем три года спустя после предыдущего, в одну упряжку впрягаются темы его ранних и стиль его поздних сочинений — с одинаково плачевными результатами. Набоков всегда был рефлектирующим, задиристым маньеристом, склонным к эллипсисам и постоянным отступлениям, но в его ранних, по-русски написанных вещах увлекательно излагались эфемерно-романтические истории. Его поздние произведения становились все длиннее, все труднодоступнее (так что даже наиболее явные сторонники Набокова, Эдмунд Уилсон и Мэри Маккарти, потерпели сокрушительное поражение, пытаясь одолеть онанистические каскады „Ады“)
До сих пор все это заслуживало внимания: трудные книги Набокова оказывались лучше своих предшественников; по мере их усложнения фантазия Набокова становилась более богатой. От „Лолиты“ к „Бледному огню“ и „Аде“ шло внушающее благоговейный страх развитие, настоящее крещендо гармонично сочетающихся символов и метафор (хотя уже в „Аде“ обозначились признаки авторской вседозволенности — вполне возможно, что и ненамеренной, изначально не входившей в художественный замысел). В „Просвечивающих предметах“, где эфемерный сюжет раннего Набокова подвергся облучению его „позднего“ стиля, еще больше расширилась сфера распространения неудачных острот и бесцельно кружащих аллюзий» (P[rescott] P.S. The Person's Tale // Newsweek. 1972. Vol. 80. November 20. P. 62). Высказав мнение, что «Просвечивающие предметы» — «это, прежде всего, худосочный сюжет, отягощенный неимоверным количеством тайных намеков и убогих шуток (эффект точно такой же, как если бы Набоков спас от большевиков двухдолларовую рождественскую елку, увешанную барочными украшениями)», Прескотт пришел к безрадостному выводу: «В „Аде“, поистине всепоглощающей книге, подобный маньеризм еще можно было терпеть, но пустяки, вроде „Просвечивающих предметов“, разваливаются под его тяжестью» (Ibid.).
Подобные отзывы, разумеется, не могли радовать стареющего мэтра, несмотря на броские декларации о том, что его «никогда не волновала глупость или желчность критиков», всегда довольно болезненно реагировавшего на критические уколы. Правда, гораздо неприятнее было то, что у подавляющего большинства американских рецензентов «Просвечивающие предметы» вызвали не отторжение даже, а болезненное недоумение и растерянность. Если Джон Апдайк <���см.>честно признался в своем непонимании набоковского замысла, то другие рецензенты (из числа тех, кто испытывал перед Набоковым благоговейный ужас и не мог осмелиться на какую-нибудь серьезную критику в его адрес) с большей или меньшей ловкостью маскировали свое непонимание пересказом зачаточной фабулы, поверхностными наблюдениями (в частности, о том, что появляющийся где-то в середине романа писатель R. — пародийный двойник самого Набокова) да констатацией того, что в этом романе писатель интересуется чем угодно — смертью, потусторонностью, вопросами литературной техники, — но только не реальной действительностью и живыми людьми. В качестве десерта предлагались экстравагантные интерпретации наугад выбранных тем и образов романа. Приз за самую оригинальную интерпретацию (если таковой был бы учрежден автором) наверняка получил бы рецензент газеты «Нью-Йорк таймс», настаивавший на том, что в «Просвечивающих предметах» чувствуется «почти всепоглощающая озабоченность Набокова фрейдистскими темами — в частности, Эдиповым комплексом» ( Lehman-Haupt С. Ignoring Nabokov's Directions // New York Times. 1972. November 13. P. m-13).
Другие рецензенты — из числа рьяных приверженцев Набокова, бесповоротно зачарованных блеском его писательского дарования и поэтому далеких даже от мысли о каких-либо критических замечаниях, — отличились на поприще интертекстуального опыления набоковского текста, то есть «вчитывания» туда весьма произвольных и необязательных литературных ассоциаций. Так, Роберт Олтер сопоставил «Просвечивающие предметы» с… «Ромео и Джульеттой» — на том основании, что в обоих произведениях имеется пара влюбленных друг в друга молодых людей, по вине героя и там и там погибает возлюбленная, что и самого героя обрекает на смерть ( Alter R. Mirrors for Immortality // Saturday Review. 1972. Vol. 55. № 46 (November 11). P. 74).
Майкл Вуд <���см.>, хоть и заявил о том, что «Просвечивающие предметы» — «это первый роман Набокова, через плечо которого не заглядывает другой роман, написанный по-русски», тем не менее в конце своей рецензии дошел до сравнения «Просвечивающих предметов» с «Защитой Лужина». Саймон Карлинский <���см.>куда более обоснованно указывал на тематическую и сюжетную связь «Просвечивающих предметов» с давним набоковским рассказом «Возвращение Чорба» (правда, и он не удержался от пагубного соблазна — а кто из Набоковедов не любит щегольнуть своей чудовищной эрудицией? — и безоглядно окунулся в оргию интертекстуальных сближений, объявив героев романа, Арманду и Хью Персона, «современным вариантом толстовских Элен и Пьера из „Войны и мира“», а самого Набокова — последователем Гофмана и Владимира Одоевского).
Характерно, что в рецензиях американских «набоковианцев» азартное жонглирование аллюзиями и многомудрыми рассуждениями о «литературных влияниях» почти полностью вытеснило аксиологический аспект — либо потому, что подходить к творчеству «живого классика» с какими-нибудь оценочными критериями они считали неприличным, либо потому, что им все труднее и труднее становилось подбирать веские аргументы, которые подтверждали бы высокое эстетическое качество очередного набоковского «шедевра».
Впрочем, какие бы объяснения мы ни предлагали, факт остается фактом: похвалы Набокову со стороны его американских поклонников на этот раз звучали как-то глухо и вымученно, а возгласы разочарования и пренебрежительный смех недоброжелателей — все громче и настойчивее.
В английской прессе ситуация с критическим восприятием «Просвечивающих предметов» была не многим лучше. Рецензент из газеты «Обзервер» предположил, что «Просвечивающие предметы» представляет собой своеобразный римейк прежних набоковских произведений, и высказал мнение, что к концу романа Набокову, видимо, самому наскучило «вставать в позу, принаряжаться, якобы для выполнения трагического замысла, так же как и расплачиваться по старым литературным и психологическим счетам». Вывод критика был малоутешительным: «Он [Набоков] — очень хороший писатель. Но „Просвечивающие предметы“ явно не лучшая его работа; я ставлю ее гораздо ниже „Пнина“, „Лолиты“ и „Приглашения на казнь“» ( Hope F. The Person in question // Observer. 1973 May 6. P. 37). Мартин Эмис воздержался от прямых оценок. Ограничившись общими наблюдениями относительно художественного метода «позднего» Набокова, он заметил, что его «истинное достоинство — не в развязной мультиязычной манере, отличающейся пристрастием к неологизмам и акростихам, а в случайно, вопреки этой манере существующих изящно-ироничных предложениях, благодаря которым авторские идеи получают возможность проявиться во всей своей полноте» ( Amis M. Nabokov in Switzerland // Spectator. 1973. № 7559 (May 3). P. 591).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: