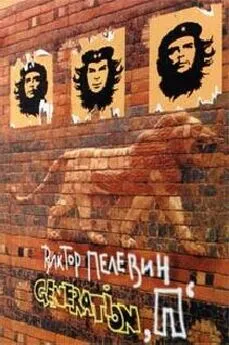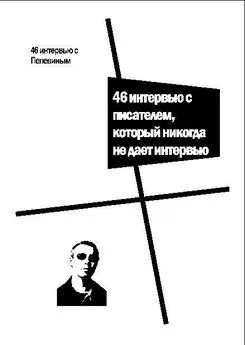Сергей Сиротин - Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме
- Название:Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2012
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Сиротин - Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме краткое содержание
Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В следующем романе “Чапаев и Пустота” сакральному приходится выживать в более жестких условиях. Впрочем, оно и не выживает, потому что здесь Пелевин больше не ведет работу по его реабилитации. В “Жизни насекомых” мифологические сюжеты резонировали с повседневностью, и это было реальным методом движения к истине религиозного порядка. В “Чапаеве и Пустоте” метода нет, остался лишь калейдоскоп ситуаций, искусственно нанизанных на сюжет об иллюзорности мира. Истины Пелевина стали назывными. Вместо того чтобы подтверждать их, он подводит под них мобильный дискурс произвольного исторического или культурного плана. Известно растиражированное признание писателя о том, что это “первый роман в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте” . Вряд ли с этим можно согласиться. В сущности, пустоты в романе вообще нет. По крайней мере, такой, которую иногда дано познать человеку, — равнодушно обгладывающей его до голого сознания, нигде не находящего утешения и жалеющего о самом факте своего существования. Речь, разумеется, могла бы идти о пустоте не как бессодержательности, а как равнодушии, равнозначности, о бодрийяровском “аде того же самого”. Но и такой пустоты нет. Ни в одной из полудюжины реальностей, выведенных в “Чапаеве и Пустоте”, персонажи почти не делают оглядок на себя и свою жизнь, а если и оглядываются, то это ничего не дает — кроме повода подвести одну галлюцинацию к другой. В своих реальностях они заперты вместе со своими мыслями и не перерастают этой тюрьмы.
Когда Пелевин говорит “пустота”, он имеет в виду лишь то, что перед лицом “ничто” одна реальность не истиннее любой другой. Но при этом он не создает никакого механизма отрицания мира. Борьбы против мира у него нет вообще, он может бороться с реальностью, разве что делая все ее виды поставщицами анекдотов. В итоге мир всегда самоотрицается чудесным образом, в свете чего неудивительно и отсутствие у человека реальной тоски по “ничто”. Пелевинская пустота не встречает нас мраком и не вводит в отчаяние, она не то что терпима, а даже приемлема. В ней можно сносно существовать, она может поглотить нас без боли, более того, может отвлечь от тягостных мыслей. Чтобы понять ее, мы следуем за бесконечными интенциями об иллюзиях и заключаем, что пустота, по Пелевину, есть бессмысленность опыта. Но эта мысль куплена слишком подозрительным сотрудничеством с современностью. Кажется, что в борьбе с ее знаками Пелевин не заметил, что уже обязан им. Стоит ли говорить здесь о заявленной новизне? Провести переоценку мира, связав ее с дискредитацией или уничтожением последнего, пытались не то что отдельные интеллектуалы, а целые направления вплоть до киберпанка.
В романе главное не пустота, а опыт пассивности в отношении к миру. Изображение того, как движутся сырые куски информации, когда человек на них не смотрит. Текст более чем безличен: он не предназначен для защиты чьей-либо позиции, не олицетворен для диалога и не требует веры в себя. Это достигается не только иронией, но и произвольностью структуры. Не только главы сцепляются друг с другом через случайные детали, но и сам текст готов к вторжению любых образов, какими бы чужеродными они ни были. Соседство Чапаева и Шварценеггера могло бы, конечно, рассматриваться как просто “высосанность” — в конце концов, на их месте мог быть кто угодно. Но именно эта “высосанность” и открывает, что есть на самом деле сознание современного человека. Оно есть синоним всякого порабощения, белый флаг, выносимый навстречу любому факту и событию. Пелевин решил продемонстрировать это без пастеризации реальности. Вообще, ее изображение у Пелевина иногда обвиняют в непроработанности, дешевизне, но не хотел ли он сам сделать его таким? Разве стилизация не является его принципом не в силу неумения писать по-другому, а в силу того, что сам мир воспринимается им как работа стилиста? Отсюда и берет начало его “постмодернизм”, агрессивное торжество лубка, — уже потому, что специфическому опыту отказано в ценности. Сегодня не нужно работать в японской компании, чтобы описывать ее будни без штампов, — сама реальность ничего не сделала, чтобы их избежать. Так возникает тема одиночества перед лицом действительности, а не других людей, в этом же, возможно, и одна из причин эффекта миддл-литературы. Получается, что социальное интересует Пелевина не в его природе, а лишь в экстатических эффектах на мир субъекта, часто туповатого обывателя, которого он, выводя за пределы отношений с людьми, стравливает с оголенной и неодушевленной действительностью. В таком смысле это логический предел экзистенциальной темы, хотя ее вырождение в иронию все же сильно дискредитирует столь высокий контекст.
Так или иначе, в “Чапаеве и Пустоте” Пелевин прошел точку невозврата в своем отношении к мифу. Он больше не обращается к нему непосредственно, а как бы подписывается на него, становится его клиентом. Их взаимоотношение напоминает коммерческую сделку. За плату в полсотню имен и цитат на роман покупается статус посвященного человека. На самом же деле происходит другое — реальная работа по освобождению для “ничто” передоверяется чуду. Низший мир, то есть окружающий, при этом как бы остается в зале его ожидания. При этом истины, вокруг которых так много суетится Пелевин, для столь грубого и неизящного метода обсуждаются чрезвычайно долго. Куда справедливее было бы изменить к ним подход либо вообще от них отказаться. Потому что иначе возникает двусмысленность: для человека, имеющего реальное знание о “ничто”, Пелевин является слишком добросовестным натуралистом в джунглях иллюзий. Это своего рода стокгольмский синдром, где писатель является заложником буддийской философии. Но в свете такого противоречия вряд ли стоит считать буддийские подтексты центральными. Значение Пелевина, наверное, все же не в движении к высоким представлениям о мире, а в умении выбрать ракурс для топографической съемки современности. В свою очередь, та, отказываясь от таких представлений, оказывается предоставленной самой себе.
Об этом роман “Generation “П””. Ракурс взят более ответственный: исчезает съемка без предварительной фокусировки. Уже нет необходимости обращаться ни к альтернативной истории, ни к сюжетам о расстройстве личности. Постмодернистское восприятие мира легко возникает без помощи воображения, от простого взгляда в окно. Воображение становится своего рода подчиненной функцией реальности, виртуальная структура которой проявляется сама, уже не нуждаясь в поставках метафор. Из производителя события человек превращается в накладную на него. В комментатора, в сопровождающего. В этой ситуации логичен интерес к рекламе. Реклама, механизм вещания, каналы потребления, структура эфира — все это обманчиво кажется автономным устройством, поддерживающим современное общество. Понять его — значит, понять мир. Но “постмодернизм” Пелевина в том и состоит, что он сделал это устройство непознаваемым. Его герой-рекламщик принципиально не приобретает о нем реального знания. С точки зрения опыта ничего не меняется: Татарский был и остается человеком без убеждений. И при этом ситуацию нельзя назвать абсурдной, поскольку у Татарского нет сознания, готового для абсурда. Его сознание не знает боли, это очередная ситуация постмодернистской пассивности, когда человеку не дано ничего произвести, когда он лишь служит нишей для информации, агрессивно шныряющей по бессущностному пространству. Сакральное снова изгнано. Хотя разницы между фантастическим и реальным по-прежнему нет, они не знают об абсолютной реальности и не указывают на нее. Речь даже идет об обратном. Об абсолютной текучести реальности, призрачной и неуловимой, о ее непригодности для вещей, как они есть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: