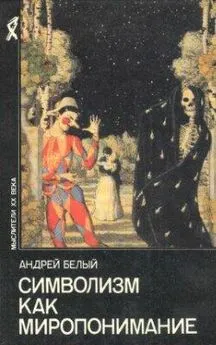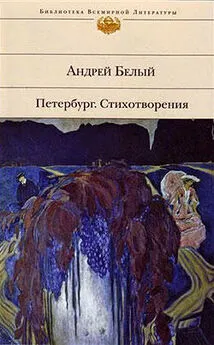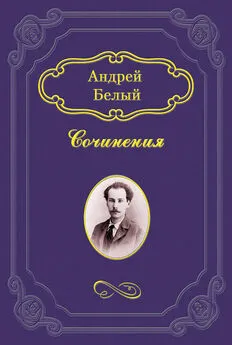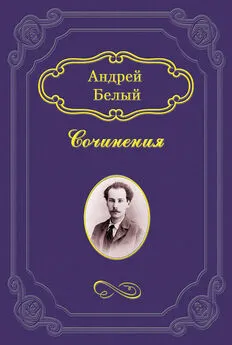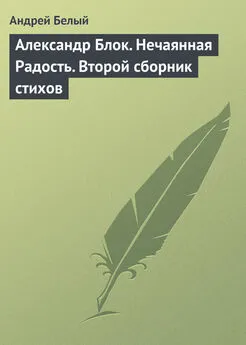Андрей Белый - Символизм как миропонимание (сборник)
- Название:Символизм как миропонимание (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Республика
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-250-02224-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Белый - Символизм как миропонимание (сборник) краткое содержание
Андрей Белый (1880–1934) — не только всемирно известный поэт и прозаик, но и оригинальный мыслитель, теоретик русского символизма. Книга включает наиболее значительные философские, культурологичекие и эстетические труды писателя.
Рассчитана на всех интересующихся проблемами философии и культуры.
http://ruslit.traumlibrary.net
Символизм как миропонимание (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот чего я не понимаю в непониманиях меня и горько стоял над этими непониманиями, постоянно поворачивая в эту сторону разгляда меня в антропософии и антропософов, и неантропософов. И те, и другие с исключительной неохотою, почти с непосредственною враждой останавливали во мне эти попытки договориться: либо молчанием, либо не вполне тактичной переменой темы разговора, либо оскорбительным подозрением меня в хвастливости, неправде, либо диким криком и ругательствами (как Метнер), либо участием в распространении сплетен обо, мне, как впавшем в прострацию (как Блок в своем «Дневнике»). Я же стремился, чтобы меня поняли и в антропософии, и в не-антропософии, ибо в антропософию я внес свой « символизм » и в своем до-антропософском, « аргонавтическом », « весовском » и всяком другом символизме был антропософом, медленно раскрывающим антропософию в своем « я », пусть ошибочно, но автономно.
Думается мне, что такое нарочитое неуслышание меня в 1912 году (в бытность мою в « Мусагете ») всем пленумом мусагетцев, такое же нарочитое неуслышание меня через два с половиной месяца (в том же году) после моего разговора со Штейнером тем же пленумом мусагетцев (с орфеиками и «логосами»), обвинявших меня в чем-то (в чем?), происходило именно потому, что никто не прочел моей « Эмблематики смысла », зная, что я за нее держусь, как за скудельный намек на ненаписанную систему, плод усилий мысли всей жизни моей (от гимназических раздумий до тридцатилетнего возраста); верю, что эта статья написана трудно, написана плохо (не в мысли, а на бумаге); но ведь она же намек на итог жизненных борений, даже опытного пути . Человек поставил себе задачу — жить с друзьями, для друзей; все его личные несчастья от утопизма на этой почве; даже самая неудачностъ и спешка в написании « Эмблематики » — от разгрома журнализмом готовой системы идей, которую не было времени закрепить на бумаге; а сам журнализм и переутомление в нем опять-таки потому, что эмблема столба с рукой к духовному знанию, или « символизм », профанировался и подменялся в рядах символистов же; неужели десятилетие дружб, интимных разговоров в том, чтобы отвернуться от разбора того, что « друг » считал интимнейшим и серьезнейшим (о, насколько более серьезным, чем писание стихов и « Симфоний », или участие в « мистических » братствах).
И позднее — длилась эта тягостная для меня духота в этом пункте общения не только с врагами антропософии, но и с антропософами; дело доходило до того, что меня срывали в попытках поставить тему моего « символизма » в моей антропософии прямыми словами: « Это — неинтересно ».
— «Как неинтересно? — мог бы я воскликнуть в 1913 году, когда вся душа моя ушла в интимные темы курса, прочитанного в Лейпциге. — Как неинтересно? Ведь разговор идет о том, что без проведения темы индивидуального взятия антропософии она в нас выродится (лозунг Штейнера)» мое, индивидуальное в антропософии ведь было именно переработкой в ней доантропософской жизни. — «Если это неинтересно, к чему маниловщина с “ Антропософский друг ”? Какие же мы “ друзья ”, если мы друг другу неинтересны в нашем “ индивидуальном ”»?
И теперь с точки зрения очередной антропософской моды говорить об интеллектуальности как мече Михаила в борьбе со злом позиция « Эмблематики », пусть косноязычно высказанная, и есть позиция этого « меча », ибо в ней лозунги 1) символизм плюс критицизм , 2) свобода эмблемации , переходящая в моральную фантазию, 3) вынесение сферы символа из всех эмблем — такое же, как вынесение сферы воздействия импульса Михаила над веши покровами, ибо символ дан здесь и как предел пределов, и как « нечто » конкретное (не « ничто »).
Очень мне было важно себя объяснить в этом именно пункте во избежание будущих недоразумений.
Оговариваюсь: эти слова мот не суть обвинение, но пояснение, как тема дум о « непонятности » развивалась в годинах жизни.
Вместе с непониманием моей идеологии шло непонимание моих художественных путей; тут непонимание не было мне столь горестно: как мастер-ремесленник, я прекрасно разбирался в своих достижениях и падениях: лозунг художника о том, что он сам свой « высший суд », мне был свойственен, и не раз написанное подвергалось мною страшному суду; поэтому я не углубляю всех непониманий меня на этой почве; скажу лишь летуче, что мой показ, робчайший, одному из друзей « Северной симфонии » (в рукописи) в 1901 году встретил в полной степени угашающую мои искания в сфере искусства реплику: « Я думаю, что литература не для вас », Я подумал: « Если и этот не понял, то где мне, куда мне? » Голова и руки повисли плетьми: художнику нужен суд, критика, но именно мотивированная, чтобы ему было ясно: в чем непонимание ; немотивированные приговоры, молчание, как и беспрокие « хвалы », разбивают творчество; я выпускал книгу за книгой, а от многих близких друзей — ничего не слышал: ни да, ни нет ; не обижался, но — очень огорчался (брань, как и только хвала, — не задевала; но молчание — убивало); художник без сердечного общения с ним, как с художником — все равно что неполиваемый цветок: он — чахнет. В эпоху моего решительного перехода от романтики к реализму (символизма) я был также брошен; никто меня не встряхнул за « Кубок метелей », потрясающе « промолчанный », и я, в испуге, рикошетом, кинулся к быту, к народу, приподымая тему « Распутина » 423 в процессе ее выварки в народной гуще; не углубляясь в то, что и тут меня не поняли , отмечу: многие из друзей, близких ни звуком не откликнулись на « роман », и у меня было впечатление, что « художник » во мне проживает для них на луне, а « художник » все время затрагивал общие всем нам темы жизни : в символах. Когда же я писал « Петербург », то все меня ругали, терзали, требовали мелком редакционной работы, « прей »; в « Мусагете » казалось мне, что дебатируемый часами вопрос о шрифте есть вопрос всемирно-исторической важности, перед которым мои задачи о форме и о смысле фабулы « Петербурга » просто « бактерии », недоступные разглядению; между тем я писал о вещах, которые стали историческими фактами: об исчезновений Петербурга, революции, кризисе русской общественности; но, как в эпоху первой « Симфонии », мне было сказано: « Это — не литература » (новизна формы, может быть, романтика); так, о «Петербурге» запомнилась мне одна фраза после прочтения отрывков из него: отчего я не пишу в стиле писательницы Крыжановской; «Петербург» казался скучным, неприятным, прозаическим, « не оккультным »; надо было писать о переселении на иные планеты, а не о том, что завтра провалится Петербург . И кроме того: все меня попрекали, что я оставил «Симфонии»; оставил же я форму «Симфоний» отчасти и потому, что «Симфоний» писались и подавались — в круг молчания о них друзей . Теперь сожаления о «Симфониях» мною воспринимались как огульное порицание «Петербургу»; а ведь его не приняли в « Русской мысли »; и никогда я так не нуждался в моральной поддержке, как в эпоху работы над «Петербургом». Позднее, когда роман стал далеким и его провозгласили чуть ли не пророческим, я думал: «Что мне теперь эти признания; если бы одну сотую внимания мне уделили как художнику, когда художник нуждался в поддержке, то “Петербург” был бы куда серьезнее».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: