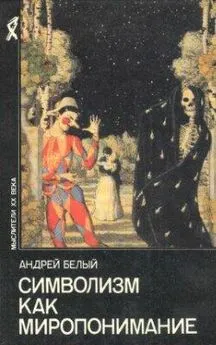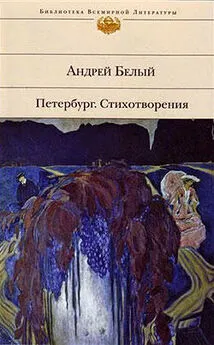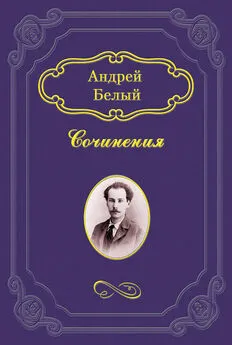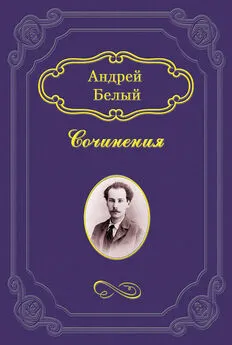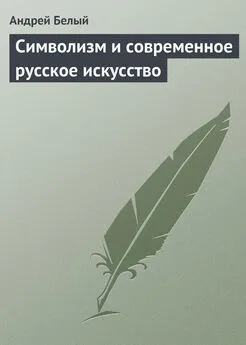Андрей Белый - Символизм как миропонимание (сборник)
- Название:Символизм как миропонимание (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Республика
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-250-02224-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Белый - Символизм как миропонимание (сборник) краткое содержание
Андрей Белый (1880–1934) — не только всемирно известный поэт и прозаик, но и оригинальный мыслитель, теоретик русского символизма. Книга включает наиболее значительные философские, культурологичекие и эстетические труды писателя.
Рассчитана на всех интересующихся проблемами философии и культуры.
http://ruslit.traumlibrary.net
Символизм как миропонимание (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В основу ломоносовской группы были положены лозунги: искать загаданной антропософии из контакта и контрапункта « как достигнуть » и « философии свободы »; искать не в схеме, а в живом опыте непредвзятой индукции (в схеме головной из двух ядов получается только ядовитая смесь, а в действительности контакта — полезная соль); в непредвзятом ожидании живых опытных результатов этого соединения « эксо » и « эсо » вариаций антропософии я именно чалил от антропософского « синтетизма » западноевропейского перерождения антропософии к соединению, к антропософскому символизму ; во-вторых, был положен лозунг общинной ассоциации вместо механического со-сидения членов в со-членстве, где « со » есть не организация живой связи, а порядок нумерации кресел ряда, в котором со-сидят члены (лучше сказать: части их тел, противопоставленные голове); и отсюда уже для меня вытекал лозунг ритмизации многообразия мировоззрительных оттенков, допустимых равно в антропософии; в принципе же общественности фактически эти оттенки все равно возникают, как оттенки « лож » (берлинской, мюнхенской, штутгартской и т. д.); но там они зависят от « гувернеров » и « гувернанток », без которых жизнь западного общества до сих пор не умела протекать; мне же виделась в свободной ассоциации тема многообразия « гувернеров », взятая критически, ибо это многообразие — ассоциация в нас свободных усилий: сложиться в цельность. Далее поднималось задание: сообразно видоизменению принципа « общества » в ритм со-общений изменить и систему строения антропософских кружков в широко и глубоко задуманную « культуру » кружков, в sui generis, «духовную академию» свободного типа, разбитого вокруг антропософии; надо мною смеялись, что я задумываю свой « культпросвет » там, где уже дан « свет » учения Рудольфа Штейнера; так дешево шутил антропософ, не зная, что к этому « культпросвету » взывал Рудольф Штейнер еще с 1915 года в Дорнахе, видя, что « свет » его учения без « культуры » стал из света сперва узким « просветом », а потом и « непросветом » в удушениях средневековой мистики антропософских суеверий, с которыми мы так боролись в Дорнахе и от которых ни « эсотерическая общественность », ни « руководители » не могли избавить; избавило — закрытие « эсотерической линии » на ряд лет Рудольфом Штейнером. Наконец, мой « культпросвет » таки вырвался в жизнь в антропософии Запада в многообразии своих форм: от ученых институтов до движения молодежи, скорее слагающейся в ассоциации, а не в общество; наконец, ассоциация пастырей христианской общины — что же это, как не вырыв из общества; я считаю, что тенденции « ломоносовской » группы на несколько лет упредили ряд тенденций, вызревших в тяжелом развале общества Запада, как размышления о том, что же с этим « опухшим трупом » делать. Наконец: я считаю важной тенденцией нашей тогдашней группы подчеркивание тем самосознания, критицизма, свободы, моральной фантазии и культуры искусств — тем, с недостаточной силой подчеркнутых в пленуме членом «Общества» ; в переложении всей ответственности за судьбы антропософии с руководителей, организаций, органов в « я » членов ассоциации выдвинутые темы получают особую значимость. Мне мечталась такая сознательность в членах группы, при которой уже невозможно сидеть и ждать от руководителей, гарантов, верховных органов директив направляющего решения; единственное направляющее решения — моя индивидуальная совесть, ибо за ошибки Дорнаха, Штутгарта, Москвы, Петербурга ответствен « я », вовремя не поднявший меч на ошибку.
Так одно время виделся мне в нашей группе возможный орган переориентировки быта антропософии в условиях, подаваемых русской действительностью 1918–1921 годов; и в переориентировке мне виделись условия возможности нового стиля культурной работы в России для подлинного антропософа; задание его — найти себе подлинное активное место в своей стране; я должен сказать, что с этим заданием русские антропософы справлялись и продолжают справляться; укажу лишь на культурную роль покойного председателя нашей группы Т. Г. Трапезникова, проводившего эту работу в общерусском масштабе, — хотя бы в роли одного из руководителей отдела « Охраны памятников ». Но западные « друзья », привыкшие видеть в культурнейших русских « докторах » только « вахтеров », и тут комически постарались понять работу покойного Трапезникова; передавали серьезно, что в годы голода он служил в сторожах и охранял памятники.
И это не каламбур, а — факт!
Я не стану перечислять своей многообразной работы в РОССИИ в эту эпоху («Пролеткульт», «ТЕО» Наркомпроса и т. д.); она строилась в согласии с антропософской совестью; и выявлялась не в пропаганде, догме, а в истинно свободном творчестве; когда вставали препоны ему, я работу бросал.
Ленинградская « Вольно-философская ассоциация » стала одно время и моим личным, и моим индивидуальным (т. е. индивидуально-социальным) делом; я связался и с ее деятелями, и с ее лозунгами, и с ее ширящейся, но организуемой многообразно аудиторией, и с темпом ее работ. В расширении своих « антропософских » представлений я встречал и препоны, и злой подозревающий глаз со стороны иных антропософов; наоборот: иные из неантропософов тут мне оказывали незабываемую, горячую братскую поддержку; не забуду и истинно нехорошего ко мне отношения антропософки Волошиной (1921–1923 годы), унижавшейся до распространения обо мне небылиц; не забуду и братского отношения ко мне ставшего мне родным Иванова-Разумника.
В. ф. а. («Вольно-философская ассоциация») в 1920–1921 годах развертывалась в Петербурге в большое культурное дело, могущее вырасти в ассоциацию « Вольфил » по всей России; и не ее вина, если механические препоны положили предел ей Ленинградом; в Ленинграде темп ее работ был стремителен, продуктивен, многообразен; 300 публичных собраний за три года жизни — одна эта цифра указывает на размах « В. ф. а. »; не упоминаю ее кружков, ее курсов, ее интимных собраний и т. д. В 1922 году она вынужденно сжималась, а в 1924 — вынужденно перестала быть.
В 20 и 21 м годах мне пришлось « 5 » месяцев, потом « 6 » месяцев работать в центре « В. ф. а. » как председателю и члену совета; организационные задания всецело поглощали меня; и особенно радовало, что « В. ф. а », — не общество, а — ассоциация людей, связанных в исканиях новой культуры (мысли, общественности, искусства); думаю: если бы западное « А. о. » приняло дух ассоциации, разбив каркас « общества » и проведя грань между исканием братства и формами государственности, многих бы безобразий в смешении линий « экзо » и « эсо » — не было б вовсе; и лучше бы поняли идею социальной трехчленности Штейнера, утопленную его учениками; эта-то трехчленность, как ритм устремления, и лежала в основе « В. ф. а »; и закладывалась независимо от идей Штейнера нам, членам совета « В. ф. а. », неизвестным в 1919–1920 годах; здесь воля, мысль и социальное чувство искали по-новому связаться с понятиями « свобода », « философия », « ассоциация людей »; и самое название « Вольно-философская ассоциация » отражало трехчленность; мне же она отражала еще и мою трехчленность, где сфера символизации виделась в свободном многообразии обрастающих « В. ф. а. » отделов, под-отделов, кружков и в свободном многообразии братски борющихся мировоззрений, ищущих свободно сложиться в культуру их круга; здесь сферою символизма являлось мне самое заострение проблемы культуры как принципа и культур, в ней лежащих, как модификаций (символизации); сферой же искомого символа мне было самое прочтение принципа культуры как ритма и ритма как выявления человеческого Духа из свободы («Дух дышит, где хочет») . Интимная жизнь деятелей « В. ф. а. » в их работе мне вспоминается в лабораторном вынашивании идей-лозунгов, учуянных снизу, в потребностях к нам притекавших масс, которые мы старались понять и приподнять в оформлении дня и минуты как в лозунге, но лозунге — симптома ритма (Символа); в этом смысле мы, члены совета « В. ф. а. », не имеющей членов, но массу и « совет », и были властью , но властью Советов или органов, кружков, устремлений, обраставших « Вольфилу »; поэтому « власть совета » здесь всегда была лишь властью минуты, властью оформленной индукции, снизу питавшей нас; эта власть носила чисто символический, ритмизационный характер; она была властью постольку, поскольку она угадывала пульсацию вольфильского сердца; поскольку же не угадывала, она мгновенно свергалась, ибо « совет » постоянно поднимал вопросы о свержении себя; и в поднятии этого вопроса постоянно получал мандат к власти: выдвигать лозунги; единственная организация, состоявшая из массы и советской четверки, бессменной по власти « Советов » массы с председателем, мной, являющимся лишь эмблемой совета ; и потому — бессменным (опять-таки — не по своей воле).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: