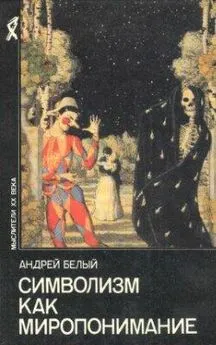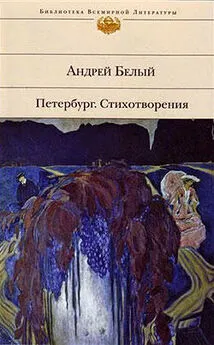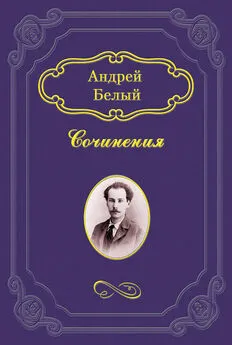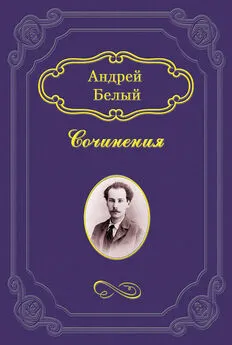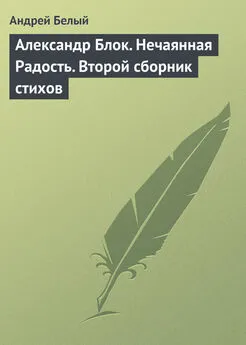Андрей Белый - Символизм как миропонимание (сборник)
- Название:Символизм как миропонимание (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Республика
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-250-02224-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Белый - Символизм как миропонимание (сборник) краткое содержание
Андрей Белый (1880–1934) — не только всемирно известный поэт и прозаик, но и оригинальный мыслитель, теоретик русского символизма. Книга включает наиболее значительные философские, культурологичекие и эстетические труды писателя.
Рассчитана на всех интересующихся проблемами философии и культуры.
http://ruslit.traumlibrary.net
Символизм как миропонимание (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И как знак этой моей мысли мне было узнание о закрытии властью « Русского Антропософского ова »; стало и грустно, и… радостно; в России « А. о.» не должно быть ; судьбы антропософии здесь — иные; антропософия должна оросить людей, как влага сухую почву; и не остаться на поверхности, как « Общество », или кличка, или даже, может быть, слово; питающая землю влага не видна на поверхности земли: она — сама сырая земля; земля, орошенная, произрастает: зеленью и цветами.
Антропософия в России, или новая культура жизни (тогда зачем бляха с аляповатым штампом « антропософ »), или — ничто. Хорошо, что нет в России ни членов, ни «Общества».
Немного осталось сказать: отмечу несколько фактов.
Уезжая из России в 1921 году (в октябре), я стал предметом « фетирований », меня озадачивших; для « фетирования » не было никаких предлогов: ни юбилея, ни — какого-либо поступка моего; поскольку в проводах меня выражалась сердечность и доброе отношение ко мне, я был глубоко тронут; меня провожали речами на публичном собрании « В. ф. а. », где дрогнуло сердце от слов какого-то мне не известного юноши («вольфильца»): «Белый, когда вам станет страшно на Западе, вспомните, что мы, в России, всегда с вами, вас любим; и вам станет легче». Слова юноши оказались пророческими; через 2 месяца панический ужас стал охватывать меня; и я вспоминал слова, что меня дома любят; в Берлине — никто меня не любил: ни антропософы, ни эмигранты; злословили о моих несчастьях, радовались, что западные антропософы — свиньи, а Андрей, Белый, хихи, — интересно! Но и этот интерес был непродолжителен; скоро я стал просто « бывшим ».
Меня провожал и тесный кружок « Вольфилы »; в Москве мне устроили в « Союзе писателей » форменный юбилей с профессорскими речами о моих « крупных » заслугах; устроили собрание (интимное) от организаций, в которых я работал в Москве; хорошие, теплые слова я услышал и от пролетарских писателей.
Я и не подозревал, что в этом импровизированном юбилее были похороны, потому что в день 25летия со дня выхода первой книги (в 27 м году) несколько друзей боялись собраться, чтобы собрание не носило оттенка общественного, ибо в месте « общественность » и « Андрей Белый » стоял только безвестный могильный крест. Я вернулся в свою « могилу » в 1923 году, в октябре: в « могилу », в которую меня уложил Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними все критики и все « истинно живые » писатели; даже « фетировавшие » меня в 1921 году странно обходили меня, опустив глаза; « крупные » заслуги мои оказались настолько препятствием к общению со мною, что самое появление мое в общественных местах напоминало скандал, ибо « трупы » не появляются, но гниют.
Я был « живой труп »; « В. ф. а » — закрыта; « А. о. » — закрыто; журналы — закрыты для меня; издательства закрыты для меня; был момент, когда мелькнула странная картина меня, стоящего на Арбате… с протянутой рукою: «Подайте бывшему писателю».
Так — не случилось.
Весь сырбор оттого, что я — « антропософ ».
И тут вспомнилась мне другая картина — в Берлине, когда « русский писатель, имеющий крупные заслуги, по уверению некоторых русских критиков, но приемлющий революцию » — оглядывался с таким точно выражением, с каким оглядывался « антропософ » в « С. С. С. Р .».
Но как я молчал на Западе о специальных трудностях быть « русским антропософом » в России, так же молчал я теперь перед бывшими членами русского « А. о. » о подлинных причинах моего обморока на Западе; молчал до 1928 года, до этого моего « взгляда и нечто ».
В этом молчании сказался мне исконно ведомый лейтмотив моей судьбы.
Уйдя из Москвы, я два года просидел на замоскворецком заводе, служившем мне скорее одром болезни, которую медленно я преодолевал; а с 25 года переселился в Кучино, место всяческого выздоровления: оздоровления физического, морального, душевно-духовного, оздоровления интересов и чтения; помимо других работ здесь я набросал черновой эскиз недоработанной книги « История становления самопознающей души » (я его доработаю, когда жизнь позволит); эта книга — студенческий семинарий над несколькими мыслями Рудольфа Штейнера, взятыми в разрезе моей мысли, куда мысли о символизме , конечно, вошли; здесь, в Кучине, я записывал сырье моих воспоминаний о личности покойного Рудольфа Штейнера (жизнь не позволяет их доработать); но ни в книге, ни в « воспоминаниях » нет следа о лично перенесенном мной в «Обществе».
Лишь после слов любви к Штейнеру и глав о том, что я не переставал быть антропософом, я позволил себе закрепить и эти воспоминания, исходя из мысли, что говорить о свете там, где есть и тень, — все же: ложь; и говорить восторженно о других, постоянно преумаляя себя, может быть, полезно как упражнение в смирении, но не всегда полезно для правды .
Почему до этих заметок я молчал о многом?
Я хотел, чтобы в годах молчания отстоялась правда , отделяясь как от субъективного, слишком субъективного, так и от объективного, слишком объективного; мое слишком субъективное — крик от боли: и оттого — стиснуты зубы; мое слишком объективное — впадение в трафарет антропософского благополучия в разговорах о западном обществе и об антропософах из боязни, что острая боль вырвет слишком жаркие, головокружительные слова.
Надо говорить правду , прослеживая ее в ее индивидуальном восстании (ни «объективно», ни «субъективно»), а это — трудно; этого не умею я еще и сейчас.
Но я учусь этому.
Еще замечания о себе, слишком себе, в эпоху моей жизни среди друзей в 1923–1925 годах.
В эти годы я отчаянно взвинчивал себя на стиль бодрости с другими, не ощущая в себе этой бодрости; я не хотел своими « горями » гасить свет в других; и так уже слишком часто мы — « гасильники »; и наконец: чаще всего встречаешься ни с абсолютно чужими, ни с абсолютно « своими » (с теми и с другими легче); встречаешься со средними, держась в среднем; а это среднее — самое ужасное, непроизвольное « мимикри »; мое среднее указанных лет — ужасно форсированная бодрость от ужасной выкачанности сил; ведь антропософский зажим рта о себе — длинная вереница лет при отчаянной всяческой работе, в круг которой годы входило задание: бодрить других.
В 1923–1925 годах мне было душно не раз — именно с теми из антропософов, с которыми у меня — « средние » отношения; да и кроме того: иные из « средних » друзей оказывают мне странное, порой тяготящее меня внимание, рассматривая « Бориса Николаевича » как аппарат, выкидывающий слова, книги, лекции, курсы… в пустоту молчания, между тем как « Борис Николаевич », идя к людям, ищет не аудитории, а сердечной, конкретной, социальной связи и, не видя в ответ на биение своего сердца никакого биения, уже механически начинает сотрясением воздуха (прямо скажу, — из « отчаяния ») наполнять вокруг него растущую пустоту с этим его постоянно удручающим « ни да, ни нет » — на мысли, чувства, волнения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: