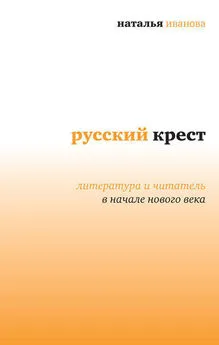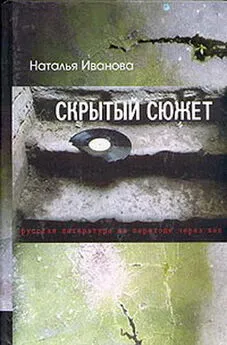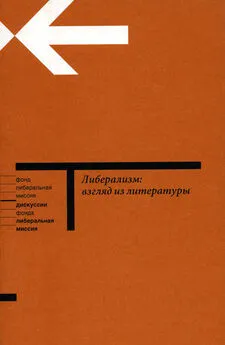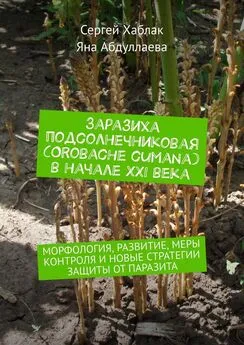Наталья Иванова - Русский крест: Литература и читатель в начале нового века
- Название:Русский крест: Литература и читатель в начале нового века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Иванова - Русский крест: Литература и читатель в начале нового века краткое содержание
Наталья Иванова – один из самых известных литературных критиков современной России. Постоянно печатает эссе о литературе в журналах России и Европы, ведет именную колонку на Интернет-портале «OpenSpace». Автор множества статей и десяти книг о современной русской прозе, а также монографий и телефильмов, посвященных Борису Пастернаку. Руководитель проектов «Премии Ивана Петровича Белкина» и «Русское чтение». Новую книгу Натальи Ивановой составили ее статьи, эссе и заметки о литературе и литературной жизни последних лет.
Русский крест: Литература и читатель в начале нового века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Non-fiction – это самая настоящая изящная (и даже порой изощренная) словесность, но без вымысла.
Где персонажи – не выдуманные, а реально существовавшие (или существующие) лица. Преображенные? Чаще всего – да.
Страстная, несправедливая, захватывающая проза Надежды Мандельштам – и изящно-фундированная, оппонирующая ей Эмма Герштейн (совсем другая, свободная, иная, чем в «Жизни Лермонтова»). Где так или иначе препарируются впечатления от реальных событий и мест, именно поэтому «Возвращение домой», «Мысль, описавшая круг», «Заблуждение воли», «Записки блокадного человека» Л. Я. Гинзбург, ее «промежуточные жанры», – подлинные образцы non-fiction, а ее книги «О литературном герое» и «О психологической прозе» – тоже образцы блестяще написанных, но литературоведческих, научных текстов. Не non-fiction.
Где авторская точка зрения может так же свободно перемещаться, как и в литературе вымысла, но где автор равен себе-реальному. Имя – Я. Эго-проза. Я, Нина Горланова, и Я, Вячеслав Букур. Я, Татьяна Толстая (в эссе, составивших книгу «День»). Я, Григорий Чхартишвили, – в своих книгах и эссе, в отличие от персонажного Б. Акунина (в авторско-жанровом эксперименте-симбиозе написаны «Кладбищенские истории»). «Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому! Это все равно что после мелких и неудобных стаканчиков-наперстков вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной воды» – опять Мандельштам.
Это не «исповедальная» проза оттепели – и это не яростная проповедь. Это вольное дыхание, движущийся свободно в переводе с латинского – prosus. Опять-таки ищу русское слово и не нахожу его для понятия эссе. На самом деле именно приданный прозе и поэзии, критике и культурологи, географии и кулинарии эссеизм «делает» словесность словесностью, non-fiction. А эссе – это прежде всего свобода. Так что non-fiction можно определить через свободное движение и сопряжение авторских мыслей и ассоциаций, управляемое искусством.
Именно поэтому у Пушкина – «даль свободного романа». Именно из-за инкрустаций, т. наз. авторских отступлений, поэзии non-fiction. А «сквозь магический кристалл»? Кристалл – решетка вымышленного (магического, i-mag-ine!) сюжета. Образ – это всегда i-mage, в корне образа всегда присутствует маг. В эссе, в non-fiction в целом словесность освобождается от «обязательного» и условного image.Литература non-fiction более прагматично, рационально выбирается рациональным читателем, как правило, на следующем этапе после горячечного увлечения чисто развлекательной словесностью. Non-fiction по читательским предпочтениям следует за чтивом (часто, однако, соответствуя той же категории, только в псевдонаучной, псевдорациональной оболочке, как книги небезызвестного Мулдашева).
Книги non-fiction у западного читателя, ценящего время, отдаваемое чтению, уже обгоняют fiction – эту же тенденцию я предрекла отечественному книжному рынку, выступая на презентации пятитомника Н. Эйдельмана, изданного чутким «Вагриусом».
Но, кроме прагматического использования (в целях просвещения и познания в принципе), литература non-fiction, в которой осуществляет себя эссеизм, – это замена мифа, то есть «мифология, основанная на авторстве» (М. Эпштейн). Эссе действительно воссоединяет – «через» и «благодаря» авторскому присутствию – распадающиеся края культуры и цивилизации, но более того: автор через стратегию non-fiction объявляет себя мифотворцем!
Поле non-fiction на самом деле необозримо – и постоянно прирастает все новыми наделами. Какая бы новая область знаний ни возникла, ее изложение вполне может быть выдано за non-fiction. Без-размер-но! Но… Правильно ли?
Я стою на другой точке зрения: non-fiction есть все, что не fiction, но остающееся в пределах художественного письма (в пределах интеллектуально-художественного дискурса). Я отношу non-fiction к изящной словесности – а не просто к книгам как таковым, среди которых могут быть и пособия по математике, и советы ветеринара.И в этом смысле, конечно, «толстый» литературный журнал, обладая своей спецификой (полностью на территории изящной словесности), ищет и публикует (даже в жанре аннотаций) то, что выполнено на условиях интеллектуального артистизма.
Ultra-fiction, или Фантастические возможности русской словесности
Русская литература золотого XIX века и серебряного XX о будущем беспокоилась мало. Хотя – ив «Памятнике» при желании можно найти предсказание, отнюдь не только личное; понимал, что такое «Пушкин» для русской словесности, и сам Александр Сергеевич: «И долго буду тем любезен я народу…».
То есть ни о какой кончине, отмене, об исчезновении литературы Пушкин не тревожился – он предполагал, что будут существовать и пииты, и читатели, причем – читающие на разных языках (переведенного?) Пушкина. Экая самоуверенность, – прокомментировал бы недоброжелательный современник. Какая точность предвидения, – сказали потомки.
«Будущее! Встрепанный бок…» «Будущее! Будь каким ни будешь…» Поэты создают уникальные формулы – предсказания и заклинания. Двух (Велимира Хлебникова и Бориса Слуцкого) я уже процитировала. Очередь за третьей: «Как в грядущем прошлое тлеет, // Так в прошедшем грядущее зреет…». Насчет «сегодня» и его роли в формировании будущего у Ахматовой, насколько я помню, ничего не сказано.
Настоящее – пропущено.
Миф русской литературы обладал таким запасом прочности, что покусились на него только в конце века двадцатого. Да и покусились не столько на сам миф, сколько на ощущение ее неистощимости, неиссякаемости.
Русская литература обладала харизмой – колоссальным творческим обаянием, притяжением – и владела особым секретом, импульсом, из этого обаяния исходящим. После насильственного введения единомыслия эксплуатировали ее наследие нещадно, хотя и однобоко, и ее энергетический поток почти иссяк; исчезающие следы можно было обнаружить в последних явлениях антисоветского соцреализма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: