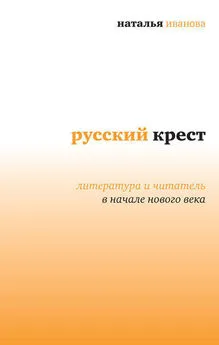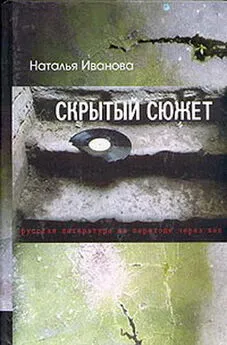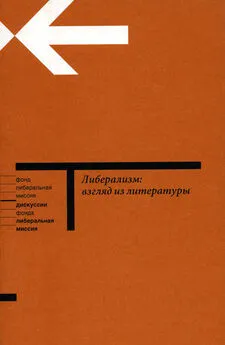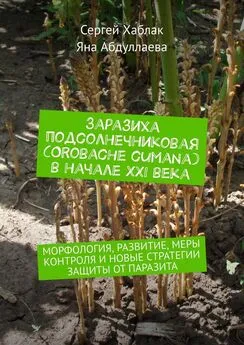Наталья Иванова - Русский крест: Литература и читатель в начале нового века
- Название:Русский крест: Литература и читатель в начале нового века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Иванова - Русский крест: Литература и читатель в начале нового века краткое содержание
Наталья Иванова – один из самых известных литературных критиков современной России. Постоянно печатает эссе о литературе в журналах России и Европы, ведет именную колонку на Интернет-портале «OpenSpace». Автор множества статей и десяти книг о современной русской прозе, а также монографий и телефильмов, посвященных Борису Пастернаку. Руководитель проектов «Премии Ивана Петровича Белкина» и «Русское чтение». Новую книгу Натальи Ивановой составили ее статьи, эссе и заметки о литературе и литературной жизни последних лет.
Русский крест: Литература и читатель в начале нового века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Цепь. Дуб. Котученый (современная словесность в зеркале русской классики)
Появление двухтомника «Литературная матрица. Учебник, написанный писателями» – доказательство от классики. Доказательство живого существования современной русской словесности. Неровного, со сбоями, с вершинами и низинами, с пригорками и ручейками, – разнообразного и занятного литературного пейзажа.
Но допрежь того – о тенденции (терпеть не могу слово «тренд») общего характера: чем дальше, тем больше с начала нового десятилетия стало проявляться отличие от равнодушного предшествующего, «нулевого». Оно состоит в том, что можно назвать возникновением коллективных действий. Коллективных действий, упрямо – и зачастую вопреки — отстаивающих общую точку зрения на какую-то занозистую проблему. Не скажу общественную – потому что, как правило, участвует в таких коллективных действиях всего лишь малая часть общества, связанная не только общей моральной реакцией, но общим делом.
При чем тут «Литературная матрица»?
А вот при чем: это тоже групповое явление и коллективный протест. В данном случае – против того унизительного положения, в которое поставлена литература. Реакция на отмену выпускных экзаменационных сочинений в средней школе.
Как-то раз после очередного цикла лекций о русской литературе в американских университетах я привезла в Москву сочинения студентов, изучающих русский язык и литературу. Сочинения были серьезными, трогательными, иногда вызывавшими улыбку; студенты в меру своих сил и понятий пытались осмыслить эти «икону и топор» [57] , этих «ежа и лисицу» [58] – не всё и не всем удавалось, но все (надо отдать должное) старались.
Отсутствие экзамена по русской литературе в формате сочинения ведет не только к закреплению устойчивой неграмотности. Будут писать (да и пишут уже) «аффтар жжот» безо всякого вызова. Или – вообще не писать (а зачем?). Читать перестанут в принципе (да и сейчас – угрожающе падает количество и качество чтения). Прагматическое – могу выразиться и посильнее – время: а зачем читать, какая от чтения худлитературы польза?
О пользе, правда, спор давний: еще Добролюбов все о пользе пекся, а Достоевский яростно возражал ему в знаменитой статье «Г-н – бов и вопрос об искусстве». Спорили-спорили, а теперь наследуем Чернышевского с Добролюбовым: сапоги важнее Шекспира. И поэта с его «Шепотом» и «робким дыханьем», ежели он выйдет к согражданам на следующий день после землетрясения со своим шедевром, просто не заметят. И никакого памятника эти потомки тех, которые не будут писать сочинений, ему не поставят.
И никакого – «и долго буду я любезен…»
И никакого «читателя в потомстве».
Так что, возвращаясь к «Матрице»: это еще и жест сопротивления, и жест актуальный. Русские классики остались в школьной программе – «так надо их читать или не надо? И если надо – то зачем?» (из вступительной заметки составителей).
Читать надо, – коллективный ответ составителей и авторов двухтомника, – потому что книги «собраны из мыслей и фантазий, сомнений и откровений, любви и ненависти, наблюдений и разочарований живых людей (…) Люди эти, коль скоро человечество помнит о них десятки, сотни лет, были людьми исключительными».
Объяснение, на мой взгляд, слабое.
Читать действительно надо – но не потому, что люди, написавшие эти книги, «исключительные» (тогда следует очередной и не очень глупый вопрос: а вас-то, дорогие участники сборника, то бишь писатели современные, – надо читать? вы – точно «исключительные»? проверки временем ведь вы еще не прошли). А потому, что чтение развивает душу, сердце и мозг – иначе человечество застряло бы в неандертальстве; именно искусство, книги подняли и сформировали человека. (Именно она, худлитература, развивает, потому что, читая, человек не только складывает буквы, как Селифан в «Мертвых душах», но и воображает, разыгрывает в своем сознании, разворачивает целые индивидуальные миры-представления; без этого качества человек никто, звать его никак и никаких открытий, изобретений, улучшений, никаких планов, проектов… Вот зачем читать – чтобы развивать воображение и сочувствие, а не просто напитываться «мыслью, которая разрывает сознание, не умещаясь в мозгу, и выплескивается вовне, в тексты» – из той же пафосной вступительной заметки.)
Затея сборника – зайти в русскую классику не с филологического крыльца. Затея сама по себе мне вполне симпатичная, – но зачем противопоставлять это филологии? философии? Мол, «написаны эти романы были не для того, чтобы несколько ящиков в библиотечном каталоге…» и т. д. Но вот имена – Бахтин, Тынянов, Эйхенбаум, Томашевский, Лидия Гинзбург, Аверинцев, Гаспаров, Чудаков. Зачем одних (замечательных в том числе, выдающихся), филологов, противопоставлять другим (иногда совсем не замечательным и не выдающимся), писателям? «Каждая статья этого сборника – опыт настоящего чтения, чтения всерьез». Ну а Борис Эйхенбаум писал свою статью «Как сделана „Шинель“» не всерьез? Андрей Белый, который сочинил, может быть, лучшую свою книгу «Мастерство Гоголя», – всерьез или не всерьез прочитал Гоголя? Да и книгу писал – как поэт, как прозаик или как филолог?
Не надо никого презирать (тем более – филологию) и не надо противопоставлять один вход другому.
Надо просто – сочинить рядом с филологией свое и по-своему.
Составители и авторы сборника это попробовали. Что получилось?
Двухтомник обращает незамыленный (представляю, в какую степень негодования могут впасть учителя-консерваторы) взгляд на русскую классику, на нашу общую «златую цепь на дубе том». Идея – неоригинальная; во Франции лет тридцать тому назад она уже была осуществлена: там вышел трехтомник о французских классиках, написанный (так же, по именам) современными французскими писателями. Каково отечественное исполнение?
Сначала весьма раздражает насильственное осовременивание классики разными новыми, не характерными для того времени понятиями и словечками.
Как бы заигрывая с аудиторией: «панк» – Чацкий. Ну какой из него панк, помилуйте. Автор эссе о Грибоедове, открывающего двухтомник, «Космическая карета, или Один день панка» Сергей Шаргунов не знает, кто такие панки? Да, он из нового, следующего за панками поколения, путается. Кстати, в новом путаницы всегда больше, чем в старом, – еще не устоялось. Да и помнится близлежащее хуже, чем удаленное (эффект не только возрастной).
«Панк», потом весь этот космос – «космическая ракета» (Грибоедов), «Бричка Чичикова ничем не хуже звездолета» (А. Секацкий, эссе о Гоголе). Гоголь – «мастер приготовления препаратов in vivo» (Секацкий), «логокомпозитор» Островский (это уже Татьяна Москвина), роман «Обломов» как триллер (Михаил Шишкин); «проект Фет», «литературный менеджер Тургенев» (Андрей Левкин), «несанкционированный митинг декабристов» (Людмила Петрушевская), «первый популист» Чернышевский (Сергей Болмат). И так далее. Оживляет это восприятие или – авторский текст?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: