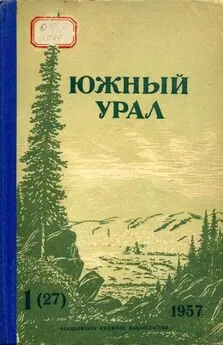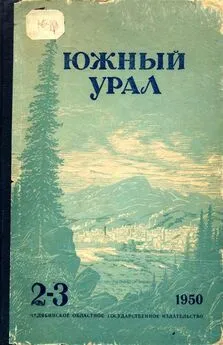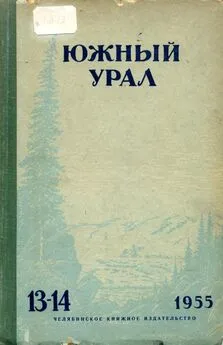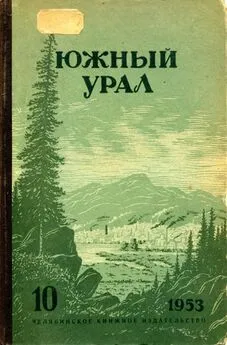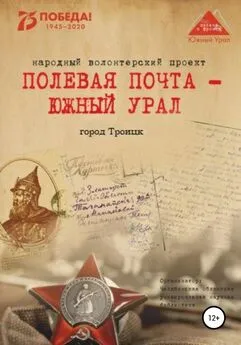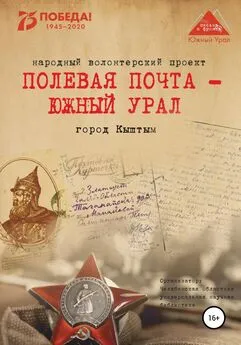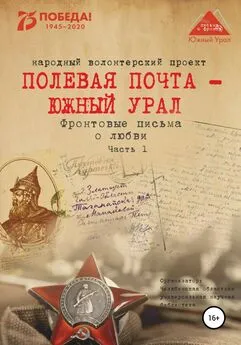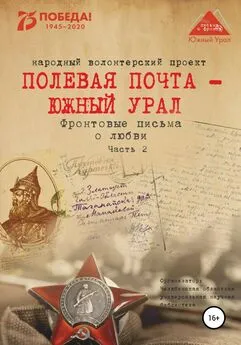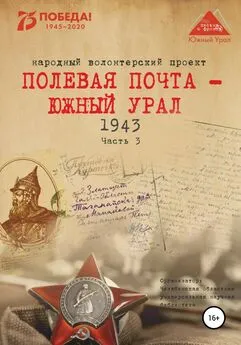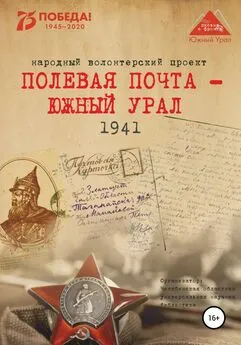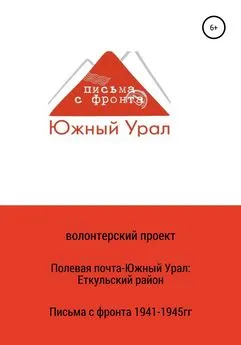Виктор Вохминцев - Южный Урал, № 27
- Название:Южный Урал, № 27
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Челябинское книжное издательство
- Год:1957
- Город:Челябинск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Вохминцев - Южный Урал, № 27 краткое содержание
Южный Урал, № 27 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Челябинск отодвинулся в прошлое. Екатеринбург — столица Урала, тогда был гораздо больше и значительнее Челябинска. И тут как раз тогда, когда Челябинск отодвинулся в прошлое, я подумал: «А почему бы мне не описать со всей реальностью такой вот город, вроде Челябинска? Ведь он будет типичен для нашей страны, нашей эпохи. Разве то, что я пережил, передумал, перечувствовал в Челябинске, не может лечь в основу художественного произведения? Зачем охватывать сюжетом всю страну, когда все действие можно сконцентрировать в одном городе? Можно взять один год, один месяц и даже одну неделю и в одну неделю вложить развитие основного конфликта эпохи и за одну неделю выразить все напряжение событий!»
И когда я стал думать и вспоминать об этой, полной напряжения зиме, прожитой мною в Челябинске, основная коллизия эпохи выделилась легко и естественно: чтобы засеять поля, надо привезти зерно, чтобы привезти зерно, нужно добыть топливо для железной дороги, а добыть топливо и привезти зерно можно только с помощью красноармейцев, которых для этого нужно вывести из города. Но если вывести из города воинские силы, это облегчит руководителям контрреволюционного мятежа задачу захвата города. И все же партийная организация для решения главной задачи выбирает этот трудный, но правильный путь и ценой больших и кровавых жертв решает задачу. И все эти события вполне укладывались в одну неделю…
И как только я нашел эту основную коллизию, сразу же обозначилась расстановка героев будущего произведения. Характер главного героя «Недели» Робейко возник уже ранее, в основу его легли некоторые черты образа челябинского коммуниста Локоцкова.
Почти одновременно сложились образы Климина, Мартынова и Горных. Основу этих характеров дали действительные лица. Все они так же, как и Робейко, в этом нетрудно убедиться, прочитав текст повести, связаны с ощущением прихода весны, предчувствия любви, близости ее, воспоминания о ней.
Этой, на всю жизнь памятной мне весной, я полюбил девушку. Обстоятельства сложились так, что, едва приехав в Екатеринбург, я простился с ней, она уехала на другой конец России, и все мои думы и чувства были проникнуты ею. То, что Климин испытывает к Симковой, это в какой-то степени выразило мои чувства к ней. Но первые записи о Симковой я сделал еще в Челябинске. В первых черновиках намечена была молоденькая девушка, сельская учительница в глухом углу Пермской губернии. Вот этот-то довольно бледный образ превратился в образы двух, друг на друга не похожих девушек — активной коммунистки Анюты Симковой и красноармейской учительницы Лизы Грачевой, беспартийной и даже религиозной девушки.
Бывают в жизни такие моменты, которые запоминаешь навсегда. Так запомнился мне этот теплый и тихий вечер, необычайно ранней и жаркой весны 1921 года, когда я на шатком, вынесенном на зеленый двор столике стал записывать то, что уже несколько месяцев теснилось в моей душе. Рядом пошумливал маленький самовар, я торопливо поужинал — небольшой ломтик плохо пропеченного черного хлеба с постным маслом казался лакомством — и, запивая морковным чаем свою вечернюю трапезу, записал первую фразу будущей повести.
«В просветы перламутровые промеж сырых недвижных куч облаков синеет радостное небо…»
Это «промеж» довольно долго оставалось в тексте «Недели». Только в 30-х годах оно показалось мне манерным, и я заменил его простым словом «между».
В те первые часы работы над будущей повестью у меня на передний план все выдвигалась фигура владельца аптеки Сенатора, которого я взял прямо с натуры. Это он стоял «на пригорке, где лежит одинокий обветренный камень», это его глазами сначала показывал я коммунистов, которые идут на собрание и, понятно, что Сенатор относился к ним с ненавистью.
«Но почему нужно начинать повесть с фигуры оголтелого врага?» — спросил я себя и вместо Сенатора поставил на пригорок Робейко.
Итак Робейко должен был стоять на пригорке в то время, корда все коммунисты спешат на собрание… Но ведь это же нарочито!
Солнце уже село, но темнело медленно, вечер все длился и никак не мог кончиться… и вдруг я, в который раз перебеляя эту первую страницу, нашел образ весны. Он представился мне сразу: словно въявь увидел я девушку, которая задремала, положила голову на колени и сидя уснула где-то на далекой лесной поляне.
То ли это была Аленушка с известной картины Васнецова, то ли отзвук стихотворения Бунина:
В стороне далекой от родного края,
Девушкой, невестой снится мне весна…
То ли представилась мне та девушка, которую я любил, но как только этот образ родился, все, что я писал, сразу налилось жизнью.
Вслед за ненавистным Сенатором исчез с пригорка и дорогой мне, но совсем здесь ненужный Робейко. Оказывается это я сам, но никем не видимый, стоял на пригорке. Это я вывел сюда читателя, показал ему коммунистов, идущих на собрание и давно уже найденный и облюбованный образ — «словно всех их освещает одно и то же утреннее солнце», встал на место.
Вся эта первая глава написалась сравнительно легко, во время нескольких таких вот ясных и теплых вечеров, другого свободного времени у меня тогда не было.
Когда, спустя некоторое время, начался голод в Поволжье, Комитет помощи голодающим выпустил в Екатеринбурге газету, средства от продажи которой предназначались в фонд помощи голодающим. Газету эту выпускали мои друзья. Я прочел им первую главу моей будущей повести. Она понравилась, и было решено напечатать ее в газете. Название «Неделя» еще отсутствовало, глава была напечатана под заголовком «Будни нашей борьбы».
Труднее мне давалась работа над второй главой, в которой изображено заседание укома. Первый набросок этой главы начинался так:
«С самого начала Климин не придавал практического значения плану Робейко».
Далее шло конспективное изложение речи Робейко, которая давалась сухо, протокольно. Во втором варианте главы вдруг появился Караулов, такой, каким он утвердился в «Неделе». Этот второй вариант был тоже не развернут, но он был конкретен. Однако сухая протокольность первой записи, где только лишь в схеме были намечены позиции Робейко и Караулова и сказано было схематически, что Климин поддержал Робейко, еще присутствовала. Только в третьем варианте, через посредство восприятия Климина, появился в этой главе важнейший мотив повести, придавший ей весомость: ощущение
«раздольного края, покрытого тихим пологом ночи, поля, пробуждающиеся под побуревшими сугробами, поля, ждущие сева, мужиков, что в погожие дни собираются у завалинок и толкуют о погоде, об урожае, а потом вспоминают, что пусто в амбарах, что нету семян и расходятся молча и ждут спасения от города…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: