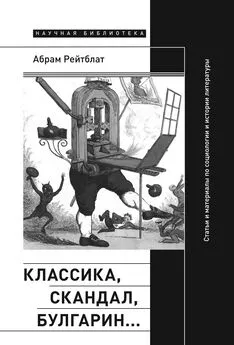Андрей Немзер - При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы
- Название:При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-96911-015-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Немзер - При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы краткое содержание
Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор. Главным героем не только своей книги, но и всей новой русской словесности Немзер считает великого, но всегда стремящегося уйти в тень поэта – В. А. Жуковского.
При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пока жизнь продолжалась, Толстой не мог остановиться. Даже на мысли о грядущем обретении света. Даже на собственном религиозном учении. Ибо как только мысль затвердевала, он вспоминал о бесконечном разнообразии жизни и необъятности души, о неодолимой страсти человека к совершенствованию и величии свободы. Какие опасности ждут на этих путях, Толстой знал. И все же любил и тех, кто, стремясь к духовной высоте, то и дело забредает на путь мирской тщеты, и тех, кто просто вольно живет, не зная и не желая знать каких-либо внешних установлений, и тех, кто впадая в грех, сохраняет душевную чистоту. Пожалуй, мучеников мысли (от князя Андрея до отца Сергия) он судил строже, чем Федю Протасова и Хаджи-Мурата.
Толстой ощущал себя центром всемирного бытия не потому, что был великим писателем и мыслителем (тут, скорее, действует обратная связь), а потому, что полагал это чувство общечеловеческим. «В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его». Потому видя в истории (и людских историях) череду дурных бессмыслиц, он постоянно выявляет их тайный – лишь искусством постижимый – смысл. Потому, всю жизнь пытаясь одолеть собственный титанический индивидуализм и мечтая о растворении в океане любви (и/или небытия), он с завораживающей достоверностью творил неповторимых и не укладывающихся в «типы» персонажей. Потому на их несхожих, резко индивидуальных лицах всегда есть «толстовский» отпечаток – и тут безотказный тихий праведник Алеша Горшок равен бретеру Турбину-старшему, карьерист Борис Друбецкой – гуляке Феде Протасову, одержимый «дьяволом» плоти Евгений Иртенев – светоносному мальчику-революционеру из рассказа «Божеское и человеческое», соблазнительница Элен – мученице Долли Облонской, а Холстомер – Пьеру Безухову. Потому трудно сыскать у Толстого героя, вовсе лишенного обаяния, а даже самые неприятные его персонажи способны страдать, раскаиваться и обретать (пусть на миг) человеческую суть.
Народные рассказы и богословские трактаты, дневники и «правила», апология чистого художества и ниспровержение Шекспира, счастливая семейная жизнь и семейная трагедия, сельские работы, охота, «арзамасский ужас», помощь голодающим, отрицание культуры, мифы и анекдоты, уход из Ясной Поляны и смерть посреди России полнятся той же могучей страстью к совершенствованию, что породила череду «художественных» (Толстой любил это слово) сочинений, говоря о которых нельзя обойтись без слова «совершенство». Меж тем само понятие о совершенстве отрицает ту «текучесть», что присуща мышлению Толстого, его (и после Толстого – нашим) представлениям о жизни и человеке. Как художник обречен на поиск идеальной формы, подразумевающей границы и центр его создания (надо ли говорить, сколь остро переживал эту проблему Толстой!), так и читатель не может обойтись без отправного пункта. И здесь Толстой вновь выдает себя. Да, задолго до попытки вовсе отказаться от искусства, он назвал свою великую книгу «многословной дребеденью», но прежде дал ей единственно возможное имя – «Война и мир». В названии этом свернута текучая, постоянно прирастающая смыслами, бесконечная и внеиерархичная вселенная книги (не зря Толстой отказывался определять ее жанр), а сама книга, в свой черед, позволяет ощутить бесконечность всего Толстого, его свободу и жажду истины, его сопряженность со всем, что переживалось когда-то нашими предками и переживается нами сейчас. Вот почему любое «приурочивание» Толстого к «актуальной проблематике» будет заведомо резонным и до безвкусицы мелким. Толстой всегда больше «клеток», в которые пытаются поместить его даже нехудшие читатели. Он уже написал «то, что называется фугой» – Войну и Мир.
Ну а как же все-таки быть со смертью? Которая рано или поздно заявит о своих правах. На каждого, будь то грешник или праведник.
Корчась от чудовищной физической боли и страшась властно тянущей неизвестности, которую обычно именуют смертью, Иван Ильич Головин чувствовал, что его муки связаны с тем, что вокруг все «не то». «Не то» делали доктора, не способные облегчить его страдания, «не то» исходило от домашних, заботящихся о муже и отце, но, как казалось Ивану Ильичу, нетерпеливо ждущих прекращения своих страданий, то есть его исчезновения, «не то» была вся жизнь выстроившего правильную карьеру, удачно женившегося, богатого, ценимого высшими, уважаемого равными и почитаемого низшими судейского чиновника, который теперь оказался обреченным на изнурительную и бессмысленную борьбу. «Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая, непреодолимая сила <���…> Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признанье того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего его мучило».
Так было до того мига, когда Иван Ильич, ощутив какой-то толчок, «провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то <���…> «Да, все было не то, – сказал он себе, – но это ничего. Можно, можно сделать “то”. Что ж “то”?» – спросил он себя и вдруг затих».
Открывшееся Ивану Ильичу «то» была жалость. Жалость к сыну, целующему его руку, жалость к плачущей жене, жалость ко всем, кого он мучил своей мукой. «Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и избавиться самому от этих страданий <���…>
“А смерть? Где она?”
Он своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.
Вместо смерти был свет.
– Так вот оно что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость!»
Эту очищающую радость – радость прозрения, обретения способности сострадать, ощущения себя частицей бесконечной жизни, радость от того, что никакой смерти нет вовсе, а есть лишь свет, – так или иначе испытывают очень многие герои Толстого. Почти все. Кто-то на пороге небытия. И не столь уж важно, успевает ли человек свершить должное, как отогревающий в метели работника Никиту купец Брехунов, или только проникается великой освобождающей правдой, как несчастный Иван Ильич. Кто-то – в ходе привычной жизни, соприкоснувшись с чем-то устрашающим либо нежданно и случайно расслышав истину, которую он долго и тщетно искал. И не так уж существенно, дарует прозрение силу и направляет на новый путь (который может оказаться ложным; с которого можно потом и сбиться), как происходит с героями, особенно близкими Толстому (например, протагонистами трех романов), или вспыхнувший свет только на несколько мгновений освобождает от суетности и себялюбия, как случилось с закоренелым интриганом князем Василием Курагиным после смерти старого графа Безухова. Кто-то не нуждается в озарении, ибо чувство правды (и неотрывное от него чувство радости) существует в его душе само собой и не заглушается шумом внешней ложной жизни. Таковы толстовские крестьяне-праведники от Платона Каратаева до старика Акима, но таков и пьяница, забулдыга, охальник дядя Ерошка или проливший немало крови, честолюбивый, страстный, пытающийся быть «политиком», но неизменно внутренне благородный и цельный (чего не отменяет его выход к русским гяурам!) Хаджи-Мурат.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



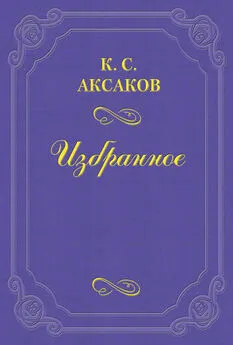


![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/1143259/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati.webp)