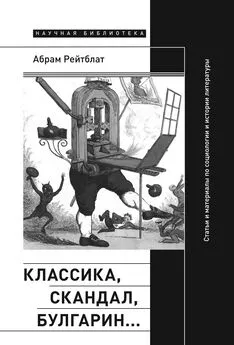Андрей Немзер - При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы
- Название:При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-96911-015-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Немзер - При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы краткое содержание
Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор. Главным героем не только своей книги, но и всей новой русской словесности Немзер считает великого, но всегда стремящегося уйти в тень поэта – В. А. Жуковского.
При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Весомым аргументом в защиту авторства Толстого считается яркая статья Л. Н. Черткова, где исследователь, отталкиваясь от беглого замечания Г. А. Гуковского о связи «Вонзил кинжал убийца нечестивый…» с балладой Жуковского «Алина и Альсим», указал на «промежуточное звено», послужившее, по его мнению, источником стихов о Деларю, – балладу Леонтия Снегирева «Милостыня», «ритмически совпадающую с балладой Жуковского и имеющую точки схождения с балладой Толстого». Обнаружив в том же журнале («Библиотека для чтения». 1834. Т. VII) три стихотворения М. Д. Деларю, Л. Н. Чертков сделал вывод: «Трижды повторенная под стихотворениями фамилия Деларю в сочетании с размером “Милостыни”, ассоциировавшимся с хрестоматийно известной балладой Жуковского, и дала <���…> настрой для пародийного использования в сатирической балладе Толстого» [291].
Вопроса о возможности мистификации Л. Н. Чертков не ставил – действительно, невозможно представить себе Соловьева штудирующим «Библиотеку для чтения» за 1834 год. Но почти столь же трудно предположить, что А. К. Толстой надолго запомнил ничем не примечательную эпигонскую балладу, пусть даже и в сочетании с соседствующей «экзотической» фамилией довольно известного в ту пору стихотворца [292]. Л. Н. Чертков полагал, что стихотворение о Деларю было написано «не ранее конца 40-х – начала 50-х гг. XIX в. – времени расцвета сатирической поэзии А. К. Толстого и коллективного авторства Козьмы Пруткова. Именно круг поэтов, выдвигавшихся “Библиотекой для чтения”, во главе с Бенедиктовым, был одним из главных объектов для пародирования А. К. Толстым и братьями Жемчужниковыми» [293]. Здесь, к сожалению, есть несколько натяжек. Обильную дань поэтической буффонаде А. К. Толстой отдавал не столько на рубеже 1840—1850-х гг. (комические тексты в ту пору, наверно, сочинялись, но не сохранились; изобилующие трудно дешифруемыми игровыми и пародийными мотивами письма Н. В. Адлербергу датируются 1837–1838 гг.), сколько позднее: наиболее яркие шуточные стихи Толстого написаны в конце 1860-х – начале 1870-х, начиная с «Истории государства Российского…» (1868) до поэмы «Сон Попова» (1873); к этому же периоду относятся исторические баллады с отчетливо выраженной сатирической (и/или юмористической) составляющей («Пантелей-целитель», 1866; «Змей Тугарин», 1867; первая часть «Песни о походе Владимира на Корсунь», 1869; «Поток-богатырь», «Порой веселой мая…», полная редакция «Алеши Поповича», все – 1871; «Садко» – 1872 [294]). Корпус сочинений Козьмы Пруткова начал формироваться не в конце 1840-х, а в 1852 году («Фантазия», представленная на сцене 8 января 1851, была приписана Пруткову много позднее) – исследователь, видимо, невольно пытается сузить «хронологический пробел» между «Милостыней» и «Вонзил кинжал убийца нечестивый…». «Прутковцы» забавлялись не с эпигонскими опусами середины 1830-х, а с гораздо более актуальными текстами (Фет, Полонский, Щербина, Иван Аксаков, Аполлон Григорьев, имитаторы манеры Гейне, в число которых входил и сам А. К. Толстой [295]; яркая, а потому не утратившая значения и в 1850-х поэзия Бенедиктова далеко не основной объект их издевательских экспериментов). Наконец, ни явно архаичная даже для своего времени «Милостыня» Снегирева, ни «культурные» стихи Деларю никак не могли служить воплощением ультраромантической «библиотечной» поэзии. «Милостыню» можно счесть источником пародии лишь в том случае, если мы уверены в авторстве А. К. Толстого и достаточно ранней датировке стихов о Деларю – но оба этих вопроса нельзя счесть решенными.
Иначе обстоит дело с оглядкой на балладу Жуковского. На наш взгляд, Г. А. Гуковский был прав, фиксируя связь «Алины и Альсима» с «комической пьеской А.К. Толстого о Деларю» [296]Публикация отброшенного Жуковским финала баллады «Алины бедной приключенье – / Урок мужьям…» [297]делала ироническую составляющую (и без того в тексте наличествующую) лишь более наглядной. «Смехотворность концовки» (выражение Г.А. Гуковского) была не авторским промахом, а следствием игровой стратегии, приметной во многих балладах Жуковского. Существенно не то, что поэт усмешливую коду снял, а то, что он ее написал. (Сходным образом А. К. Толстой сперва сочинял, а потом удалял из текстов «Потока-богатыря» и «Алеши Поповича» злободневные строфы, раздражавшие его конфидентов.) Иронический потенциал баллад Жуковского ясно осознавался автором (заключение «Светланы», автопародии, автометаописательные тексты, например, «Графине С. А. Самойловой» или «Подробный отчет о луне. Послание к Государыне Императрице Марии Федоровне», постоянное обыгрывание «страшной» тематики баллад в общении с фрейлинами). Он стимулировал литературные шутки друзей и почитателей поэта (наделение арзамасцев «балладными» именами, пародирование – не вызвавшее каких-либо протестов Жуковского – «Двенадцати спящих дев» и «Рыбака» в «Руслане и Людмиле», игровая вариация Дельвига на темы «Замка Смальгольм…», героем которой стал противник романтических затей А. Е. Измайлов; множество перепевов баллад, приуроченных к разным литературно-бытовым ситуациям). В этой связи стоит отметить, что в аффектировано романтической «Черной шали» Пушкин воспроизводит развязку «Алины и Альсима». Строки «Неверную деву лобзал армянин. // Не взвидел я света; булат загремел… / Прервать поцелуя злодей не успел» [298]отсылают как к балладе Жуковского (Альсим приходит к замужней Алине под видом купца-армянина, их целомудренное прощание прерывает внезапное появление мужа, который «…им во грудь в одно мгновенье / Вонзил кинжал» [299]), так и к ее литературно-бытовой проекции: «Армянин» – арзамасское прозвище Дениса Давыдова. В «Черной шали» (1820) (а позднее – в наброске к поэме о разбойниках «Молдавская песня», 1821; и в «Узнике», 1822) Пушкин осваивает недавно введенный Жуковским в русскую поэзию четырехстопный амфибрахий с парной мужской рифмой («Мщение», «Три песни» – написаны 1816, опубликованы – 1820; «Лесной царь», 1818). Выкроенная из материалов Жуковского «Черная шаль» становится объектом «подражания» Пруткова в «Романсе». Здесь цезурованный четырехстопный амфибрахий превращается в двустопный (с перекрестной рифмовкой ЖМЖМ), а для пущей романтичности вводится реминисценция «Даров Терека»: «На мягкой кровати / Лежу я один. / В соседней палате / Кричит армянин <���…> Упала девчина / И тонет в крови… / Донской казачина / Клянется в любви»; ср.: «По красотке-молодице / Не тоскует над рекой / Лишь один во всей станице / Казачина гребенской» (видимо, подобно мужу в «Алине и Альсиме» и обманутому любовнику в «Черной шали», покаравший неверную красавицу) [300]. Ирония А. К. Толстого (и его соавторов-прутковцев) может обращаться на тексты со сколь угодно высоким литературным статусом. В этом отношении Толстой (и его друзья) оказывается наследником традиции, восходящей к Жуковскому и «Арзамасу». Отсюда же отмеченные Г. А. Левинтоном особенности автопародийности у Толстого и усвоившего его уроки Соловьева, «потенциальная амбивалентность всякого элемента словаря (и вообще – парадигматики), благодаря которой любой элемент словаря может войти и в комический, и в некомический контекст». Далее исследователь напоминает о комической пьесе Соловьева «Альсим» и, ссылаясь на работу З. Г. Минц (1971), о «Жуковском как постоянном объекте пародирования Соловьева», справедливо добавляет: «то же верно и для А. К. Толстого» [301]. Естественно усмотреть в размере «Вонзил кинжал убийца нечестивый…» (Я 5/2) заостренную (усилен контраст длинных и коротких строк) модификацию Я 4/2 «Алины и Альсима» (ср., впрочем, редкий пример Я 5/3: «На что вы, дни! Юдольный мир явленья / Свои не изменит! / Все ведомы, и только повторенья / Грядущее сулит» [302]). Соловьев, однако, работает с этим метром активнее, чем Толстой [303]. В стихотворениях, писанных Я 5/2, Соловьев безусловно ориентировался на прутковский «Мой портрет» («К моему портрету…»), считающийся единоличным творением Толстого. Появление «вариантов» строк в стихотворении «Ах далеко за снежным Гималаем…»: «А я один, и лишь собачьим лаем / (Вариант: горячим чаем, холодным) / Свой тешу слух / (Вариант: нежу дух)» – несомненно отсылает к прутковской паре «Который наг» – «На коем фрак» [304]. Эти переклички, однако, не снимают вопрос об авторстве «Вонзил кинжал убийца нечестивый…», а усложняют его решение. Именно значимость для Соловьева опыта Толстого не позволяет однозначно атрибутировать текст.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



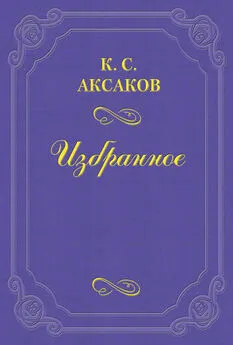


![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/1143259/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati.webp)