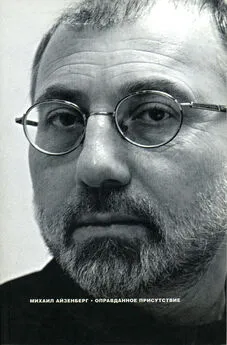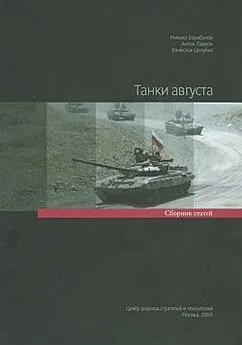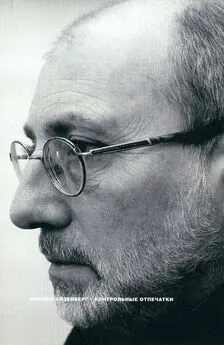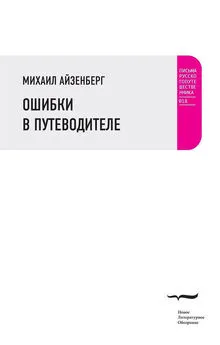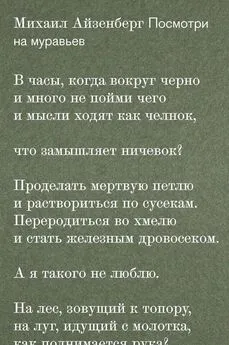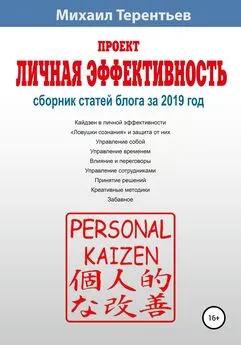Михаил Айзенберг - Оправданное присутствие: Сборник статей
- Название:Оправданное присутствие: Сборник статей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-98379-025-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Айзенберг - Оправданное присутствие: Сборник статей краткое содержание
В книгу поэта и критика Михаила Айзенберга «Оправданное присутствие» входят статьи, в основном написанные в последние годы. Их сквозная тема – современное состояние русской поэзии, которое автор понимает как качественно и принципиально новое. Разбор частных поэтик и персоналий постепенно выводит рассмотрение в более общий план – к описанию симптомов нового поэтического сознания. На вопрос «что такое стихи сегодня» автор не дает однозначного ответа, но и не уклоняется от него.
Оправданное присутствие: Сборник статей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В смене высот, направлений и ролей меняется сама природа высказывания. Оно неотделимо от восходящего потока, от определенной ситуации. (А «ситуация» здесь – что-то вроде зеркальца, подставленного вдруг и с неожиданной стороны; способного обнаружить изнанку собственной логики.) У разговора двойная природа: это, собственно, встреча двух родов речи – внешней и внутренней.
Нужно пояснить, что «внутренней» речью нам представляется язык неготовый, почти неведомый. Ищущее себя высказывание, слово в процессе становления. Даже не слово еще, а нарождающаяся связь миметических разметок (проекций?), кольцующих смысловые темноты. Размышление-переживание, переживание-глоссолалия. Этот язык – ключ к твоему существованию, к твоему личному времени. Он лишает время самой губительной его способности: проходить бесследно. Стремление существовать в разговоре есть просто стремление существовать.
Искушенный читатель, полагаю, уже подметил в нашем описании неведомого «разговорного» языка какие-то знакомые характеристики. Действительно: диалогичность, плюрализм, переключение точек зрения, культ корректности. Именно эти или подобные признаки видит в себе постмодернистский тип мышления. То есть наш искомый язык, похоже, давно найден и хорошо разработан, многие им успешно пользуются.
Но, на мой взгляд, найдено не то и не там. Есть род языковых практик, создающих как бы буферную зону между человеком и его истинным положением. Для нашей интуиции этот язык – иностранный. Положите запрет на десяток ключевых слов (вроде того же «дискурса»), и объясниться станет невозможно.
Мы назвали эти слова ключевыми, и напрасно. Они, скорее, напоминают отмычку. Ответ всегда находится в ожидаемом месте. (Например, как-то по человечески понятно, что систему, которая все – от стилевых предпочтений до самоубийства – объясняет как «художественный жест», надо немедленно упразднять: она слишком универсальна.) Постмодернистское мышление, как будто неотделимое от критики языка, демонстрирует невиданную ранее подчиненность языку в самом примитивно-властном его выражении – в гипнозе терминологии. Терминология не только смещает ход мысли, но почти подменяет его. Слова игнорируют автора.
Можно заметить, что само качество такого дискурса поразительно соприродно какому-то взвешенному, теряющему ориентиры культурному состоянию. И здесь, в языке, в характере последовательности та же потерянность, расслабленно-конвульсивный ритм движения мысли, особая фактура, что ли, самого мыслительного процесса, приблизительно определяемая выражением «хорошая мина при плохой игре».
Все-таки мы ждем от мысли смелости. А это мысль не только несмелая, но изначально и навсегда испуганная. Причем испуганная всего лишь за свою репутацию. Отсюда вся двусмысленность, речь не от себя, попятное движение описаний, как будто пытающихся спрятаться за собственную спину. «…Любое утверждение приписывается игре, где ты играешь как другой и где другой проигрывает, хотя играешь ты». [7]
Понятно, чем в первую очередь отличаются от «разговора» эти по-своему виртуозные упражнения мысли: они не учитывают и даже не предполагают собеседника. Абсолютная незаинтересованность в диалоге, странное равнодушие к другим возможностям и гипотезам, к другому языку, не культивирующему их эзотерическую лексику. Сектантская, отчасти колонизаторская спесь.
Казалось бы, мысли необходимо сравнивать и сомневаться. Но это, видимо, не совсем мышление. Скорее, принявшая облик мышления выхолощенная художественная практика.
Такое предположение отчасти объясняет своеобразное понимание «реальности» в постмодернистской системе представлений. Искусство порождает новую реальность, а с реальностью существующей вступает в сложные отношения обмена, конкуренции и борьбы за независимость. Но постмодернистское мышление, видимо, неотчетливо понимает собственную природу и не считает себя художественной практикой. Свою игровую двойную бухгалтерию оно полагает «гамбургским счетом». И тут отношения не могут идти гладко, концы с концами всегда не сходятся.
Не заметив подмены в своей трактовке реальности, постмодернизм, однако, замечает, как неузнаваемо изменился ее облик. Такой реальности действительно не стоит доверять, и постмодернисты по-своему правы, настаивая на том, что природа их реальности мнима, а интуиция и живое восприятие отменены (или в более осторожной редакции «отложены»).
Замешанная на художественной игре теория навязывает умозрению приоритетный отбор фактов, вольное их толкование и особый культурный этикет. Она борется за власть, и в этой борьбе искусство – ее ближайший и основной конкурент. У искусства сходная зона влияния, но совершенно другие возможно-сти, в которых теория видит для себя все меньше интересного. Не понимая действенной, деятельной природы искусства, теоретики считают ее областью заведомо бессобытийной (вернее, областью, где возможны только условные события: отсутствие, заявленное как присутствие, назначенное событием), но очень живо, заинтересованно реагируют на любые акции общественного активизма и «прямого» действия, еще способные будоражить омертвевшее восприятие.
Не стоит удивляться, например, что даже художественный критик выступает сейчас в роли хорошо информированного социолога. Его занимают только те пленочные зоны, где «художественная жизнь» входит в контакт с общественным мнением, распределением успеха, стратификационными сдвигами и т. п. Не в последнюю очередь это свойство языка. Другой разговор на нем невозможен, так как по своему происхождению это язык областной : пришедший в критику из областей «фундаментального анализа» – из социологии, психологии, политэкономии. Вполне ощутима и его генетическая связь с марксистским искусствознанием, не к ночи будь помянуто.
Не могу, к сожалению, вспомнить, кому принадлежит замечательная фраза: «Одним и тем же словом „культура“ мы называем и клетку, и ключ от нее». Постмодернизм в сравнении с другими типами сознания на порядок более «культурен». Но это сознание полностью подчинено культуре как состоянию и глубоко враждебно культуре-становлению, неотделимой от идущего на всех уровнях разговора: куда дальше? как иначе? Культурная статика как раз прерывает такой разговор и разводит его участников по разным помещениям; постепенно превращает их в разные популяции, «разделенные общим языком» (как американцы и англичане по их же меткому замечанию).
Для художника (в широком понимании этого слова) такое разведение особенно немыслимо: человек и автор теперь должны существовать раздельно, почти не общаясь. Немыслимо еще и потому, что едва ли удастся уловить сущностное различие между нашим описанием встречного языкового движения в идеальном разговоре и возможным описанием языка художественного – тоже двойного, встречного. Языка, способного к высказыванию-поступку и верящего в правоту как в ослепительную творческую удачу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: