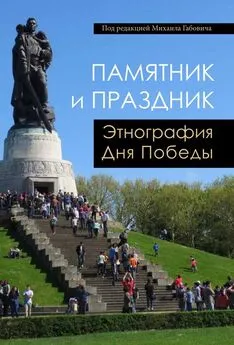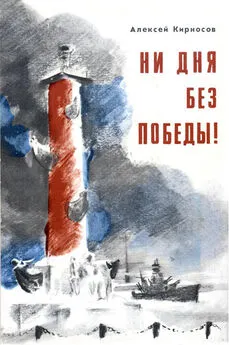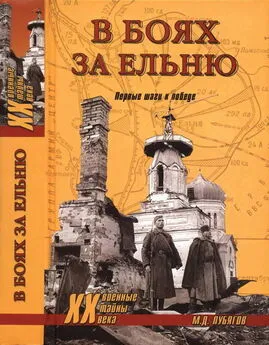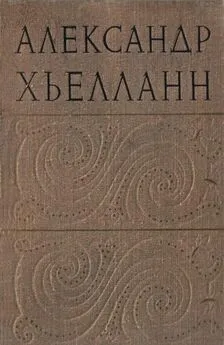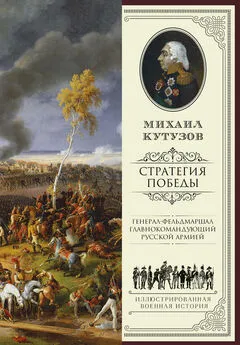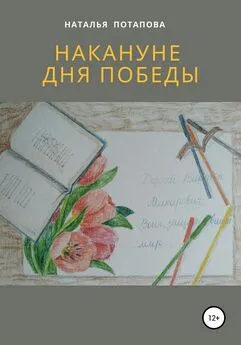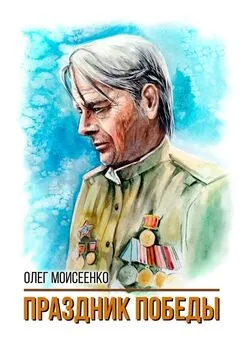Михаил Габович - Памятник и праздник: этнография Дня Победы
- Название:Памятник и праздник: этнография Дня Победы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Габович - Памятник и праздник: этнография Дня Победы краткое содержание
Памятник и праздник: этнография Дня Победы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А вот так видит этот день моя чеченская подруга, жительница Грозного Элиза, которая не только не пришла на парад, но даже не знала о его существовании:
«Что? У нас сегодня было что-то в городе?! А я и не знала…. Оля, неужели, если тебя интересует война и память о войне, ты приехала из Москвы сюда и ходишь на эту официальную фигню? В этом нет ничего живого. Нет ничего родного, все как будто мертвое, пустое, даже память о Победе»[10].
Действительно, все, что я видела во время митинга 8 мая, было похоже на отвлеченное от реального контекста действо: митинг, шествие, речи, публикации в официальной прессе и сама территория Аллеи Славы создавали впечатление абсолютной оторванности официальной риторики и празднования от восприятия Великой Отечественной войны жителями Грозного. Элиза в разговоре со мной в этот день называет официальную память о войне и Победе «пустой и мертвой». В Грозном эта метафора «пустоты» часто повторяется, причем в разных контекстах. Так в 2010–2012 годах и Элиза, и другие участни цы моего исследования через метафору пустоты описывали новый «чужой» город, который они ассоциировали с опасностью и угрозой. «Новый Грозный» в их глазах часто не имеет истории, социальных взаимосвязей и воспоминаний, он представляется им гомогенизированным пространством, возникшим вследствие репрессивной городской политики. Скорбь и меланхолия по погибшим в первую и вторую чеченскую войну на языковом уровне выражается в рассказах о пространстве, использующих топосы «пустоты» или «мертвенности» («мертвый город», «мертвое место», «пустое», «безликое»). Для описания сегодняшнего Грозного обычно используется контраст со «старым Грозным» (до 1991 года), а иногда и с военным или послевоенным: «разрушенным, но родным городом»[11].
Итак, не случайно, что Элиза в своем замечании использует такие метафоры, как «мертвый», «неживой», «пустой». Празднование 9 мая 8-го числа с первого же взгляда вписывается в то, как она и другие собеседни цы описывали «новый город». При этом Аллея Славы для многих является не только примером «новой тоталитарной архитектуры в Чечне»[12] и апогеем доходящей до абсурдности героизации Ахмата Кадырова, но одним из таких пустых, абсолютно чужих для житель ниц , мест:
«Ну, куда можно сходить в Грозном? […] Нет, в музее Кадырова нечего делать, не потому что там политические причины и т. д. и т. п. А просто там нечего делать. Там на огромную площадь, не знаю уж сколько там квадратных метров, одна пустота!»[13]
И все же на основе анализа всех интервью и разговоров можно сказать, что «Победа в той войне» [33]играет важную роль в нарративе (пост)колониальности. Несмотря на то, что для многих собеседни ц участие родителей или родственни ц в Великой Отечественной войне является не только частью семейной истории, но и предметом семейной гордости, само празднование Дня Победы вызывает у некоторых респондент ок равнодушную реакцию, или даже сильно негативную. Так, например, Шамиль комментирует запланированные на 8-е, 9-е и 10 мая мероприятия в Грозном:
Шамиль: Когда я смотрю на эти парады и митинги, я думаю, чего они над нами издеваются, что ли? Вообще непонятно, на той ли стороне мы воевали. Не уверен, что мой дед был прав.
Ольга Резникова: Что ты связываешь с 9 мая?
Шамиль: Что я связываю с 9 мая?! Победу. Мой дед воевал… Но не затем, чтобы русские потом испоганили мне весь этот праздник.
Ольга Резникова: Чем испоганен для тебя этот праздник?
Шамиль: Тем, что мы здесь, на этом месте. При чем тут Кадыров? При чем тут русские? Русские не воевали, русские нас депортировали[15].
Шамиль говорит о празднике День Победы как об инструменте русской гегемонии, обозначая при этом свое амбивалентное отношение к истории Второй мировой войны. При этом официальное место — Аллея Памяти — воспринимается им как угроза, стремящаяся вытеснить амбивалентную семейную память о войне своей монументальной и подконтрольной нынешней политической элите памятью о первом президенте Чечни. Это создает ощущение ее колониального характера, а сам праздник связывается Шамилем с русской культурной гегемонией. Это не единственный комментарий о «не той стороне» в Великой Отечественной, который я слышала во время своих интервью и неформальных разговоров о праздновании Дня Победы. Иногда подобные высказывания сопровождались антисемитскими лозунгами, отрицанием Холокоста или оправданием Гитлера как «человека, способного остановить Сталина».
Интересно, что один и тот же человек может говорить о «прекрасном старом межнациональном городе… [где] все жили в дружбе и помогали друг другу: евреи, армяне, русские, чеченцы», а через какое-то время в том же интервью сказать:
«Не знаю, может быть, и нехорошо это, что мы сражались на стороне русского народа. Может быть, надо было эту имперскую машину как раз тогда останавливать? Думаю, что если бы Гитлер доделал бы свою работу до конца [в контексте интервью понятно, что имеется в виду уничтожение евреев. — О. Р.], то не было бы этой страшной истории в Чечне, не было бы этих жутких войн и геноцида чеченского народа»[16].
Значение антисемитизма в антиколониальной и антиимпериалистической риторике в Западной Европе довольно хорошо изучено представителями Франкфуртской школы и критической теории[17]. Что же касается функции антисемитизма в контексте обсуждения российского колониализма, то эта тема мало изучена. Необходимо провести более широкое эмпирическое исследование с соответствующим научным вопросом. В контексте же 8 мая в первую очередь интересно, что антисемитский рессентимент, очевидно, связан с тематизацией российской имперской политики и осознанием колониальной специфики истории Чечни в царское и в советское время.
При этом нарратив «дружбы народов» имеет большое значение как для неофициальной памяти (в контексте противопоставления старого и нового города), так и для официальной риторики. Во втором случае выстраивается общая версия российской истории и совместной Победы, с помощью которой заново конструируется понятие «единого народа», или «российского народа», отсылающего к прежнему понятию «советский народ». При этом героизация памяти и национализация героев (наиболее ярко героизирована фигура Мавлида Висаитова, но это касается и Мовлди Умарова, Магомеда Узуева и других чеченцев, представленных во время или после войны к званию Героя Советского Союза, но не получивших его[18]) тесно переплетаются в официальной риторике с героизированным образом «отца сегодняшнего чеченского народа Ахмата-хаджи Кадырова»[19]. Празднование Победы и создание официальных образов национального траура и общероссийского праздника, не пересекающихся с семейной и личной трагедией жительни ц Чечни (в первую очередь это касается 23 февраля, перенесенного на 10 мая), создает обратный эффект. Совместная российская история, в том числе и победа в Великой Отечественной войне, становится историей «русских» и русской гегемонии [34].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: