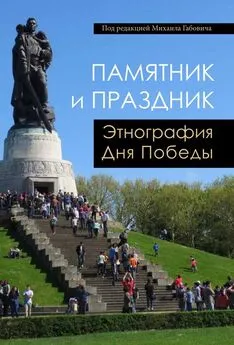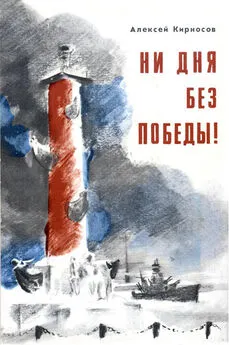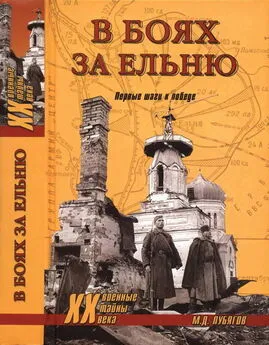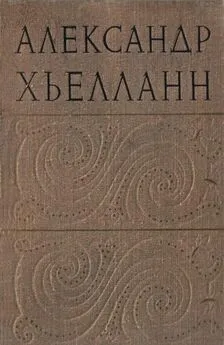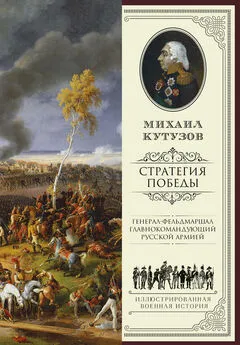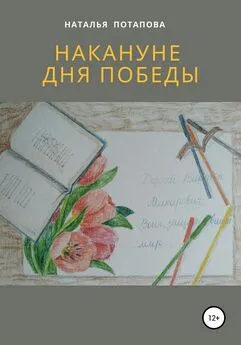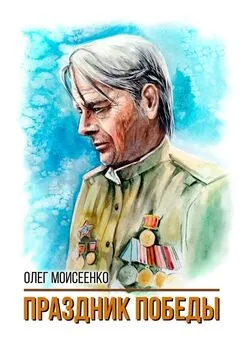Михаил Габович - Памятник и праздник: этнография Дня Победы
- Название:Памятник и праздник: этнография Дня Победы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Габович - Памятник и праздник: этнография Дня Победы краткое содержание
Памятник и праздник: этнография Дня Победы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Встает вопрос о степени преемственности между исторической политикой, осуществляемой Лукашенко, и прежним советским мифом Победы. По утверждению Натальи Лещенко, «национальная идеология, культивируемая Лукашенко, представляет собою смешение советских коллективистских принципов, прилагаемых к беларусскому национальному суверенитету и государственности»[17].
Вместе с тем, можно говорить о том, что беларусский образ войны отличается от советского и имеет свою специфику, которая начала складываться еще в СССР. Во-первых, подчеркивается огромное число жертв среди беларусского народа, который приобретает статус не только народа-героя, но и народа-мученика, чья победа в войне была оплачена трагической ценой. Этому способствует постоянное воспроизведение риторической фигуры о каждом четвертом беларусе, погибшем во время войны — такая символическая жертва на алтарь победы была монументально запечатлена в ландшафте комплекса «Хатынь» в машеровский период [49]. Более того, без всяких научных обоснований «каждый четвертый» в последние годы превратился в каждого третьего:
Война прошла смертоносным ураганом по Беларуси, унеся в небытие треть наших сограждан. Беларуский народ выстрадал, заслужил право жить так, как он хочет, на своей земле. (Лукашенко 2011)
Жизнь восторжествовала над смертью. Но для беларуского народа, принесшего на алтарь борьбы с фашизмом треть своих сограждан, война никогда не станет далеким прошлым. (Лукашенко 2013).
Во-вторых подчеркивается исключительная роль именно беларусского народа в победе над фашизмом, где особую роль играет т. н. «партизанский миф». Постепепенно уходит в тень «советский народ как победитель фашизма», и это почетное место занимает беларусский народ.
Подчеркивание исключительной роли беларусского народа достигает порою фантасмогорических размеров, о чем свидетельствует, например, такой отрывок из выступления президента Беларуси Александра Лукашенко:
Оккупированная, но непокоренная Беларусь явила собой невиданный в мире феномен всенародного сопротивления агрессору. На борьбу с врагом поднялись все — от мала до велика, независимо от пола, национальности и вероисповедания. По данным авторитетных зарубежных военных источников, беларуские партизаны и подпольщики за время Второй мировой войны нанесли гитлеровцам больший урон, чем союзнические войска в Европе. Такого мощного патриотического порыва не было ни в одном из захваченных фашистами государств. (Лукашенко 2009).
С другой стороны, у Великой Отечественной войны есть и негативные стороны для исторической памяти — тяжелые потери, провальное начало войны, период оккупации и связанная с этим проблема коллобарационизма. Эти негативные моменты остро обсуждались в СМИв конце 1980-х-и начале 90-х гг., но в последнее время практически исчезли из публичного дискурса как в Беларуси, так и в России. Стоит также обратить внимание на то, что и образ партизанского движения в неофициальной памяти, транслируемой преимущественно по семейным каналам в деревенской среде, выглядит достаточно противоречиво[19]. Свидетельства устной истории, собранные в экспедициях по деревням беларусского пограничья (беларусско-польского и беларусско-российского) под руководством доктора исторических наук Алеся Смолянчука опровергают тезис о «всенародной поддержке» партизанского движения местным населением. Скорее, зафиксированные нарративы демонстрируют негативные образы партизан, наполненные отчуждением и страхом.
Одним из главных критериев оценки партизан было их отношение к людям, в частности, просили ли они еду и одежду, или насильственно отбирали. Существовало убеждение, что «настоящие» партизаны — «потому что им тоже нужно есть» — «тихо постучат, хлеба, молока попросят, а хулиганы обманом живут, все обманом забирают и пристрелить могут». В то же время «бандиты», «торбешники», «бобики» забирали все силой… В любом случае, партизаны дистанцировались и от первых, и от других, поскольку каждый человек с оружием представлял опасность для жителей деревни[20].
Поэтому совсем не удивительным выглядит свидетельство беларусского философа Валентина Акудовича о том, что простое население враждебно относилось к партизанам:
И на западе Беларуси (Гродненщина), и на востоке (Витебщина — партизанский край), в непосредственном, неидеологизированном разговоре в слове «партизан» звучит все, что угодно, от едкого скепсиса до унылого безразличия, но только не «беларусские сыны». За исключением немногочисленных фактов, народное сознание отреклось от партизанки, и потому нам не найти уважительных, благодарственных, отмеченных гордостью за мужественное действие интонаций в семантической окраске всего комплекса слов, которые ее определяют[21].
По утверждению Сергея Ушакина, переоценка партизанского движения в интеллектуальных дискуссиях, которая опирается на коллективную память деревенского населения, отображает парадигмальный сдвиг для памяти о войне в Беларуси — от «сопротивления» как ключевого тропа послевоенной истории к новому тропу «оккупации»:
В итоге партизанское движение в Советской Беларуси трактуется как чужая и чуждая практика самоуничтожения, как спущенная сверху форма деятельности и дееспособности, которая вступала в противоречия с любыми сколько-нибудь рациональными доводами и интересами местного населения[22].
Эти разночтения памяти в официальном регистре и массовых представлениях о прошлом предоставляют определенные политические возможности. Можно отметить отдельные попытки воспользоваться «контр-памятью» о войне для того, чтобы оспорить официальный образ этого события — и соответственно, подорвать легитимность власти.
Как уже отмечалось, по советской традиции память о Победе в войне служит одним из важнейших средств легитимации современного государственного режима в Республике Беларусь. Государство практически монополизировало эту память, контролируя доступы к ее трактовкам в исторической науке и каналам трансляции в культурной памяти. При этом беларусское государство фактически занимает позицию главного хранителя памяти о войне, постоянно активизирующего ее в публичном дискурсе и препятствующего забвению.
Но такое отождествление памяти о войне с официальным беларусским дискурсом приводит к тому, что любая трактовка военных событий политизируется. Помпезные и героические описания восхваляются властью и используются ею как инструментальный ресурс для упрочения своих позиций. Но и попытки пересмотра, иного прочтения войны на Беларуси опять же неминуемо попадают в политическое пространство.
В качестве примера можно привести случай с фильмом «Оккупация. Мистерии», снятым беларусским режиссером Андреем Кудиненко. Особенностью этого фильма стала своеобразная интерпретация партизанского движения (так, среди персонажей фильма резко негативно выделялся командир советского партизанского отряда) и упор на непосредственные человеческие эмоции, находящиеся вне идеологических рамок. Такой подход сразу же вызвал возмущение беларусских властей, Министерством культуры фильм был лишен прокатной лицензии и внесен в список кинопроизведений, запрещенных к показу в стране. Мотивировался запрет следующим образом:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: