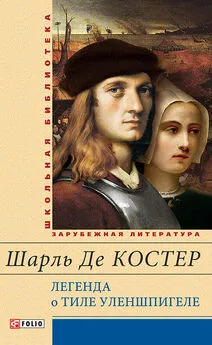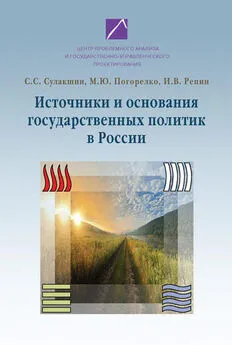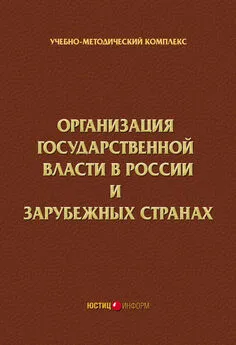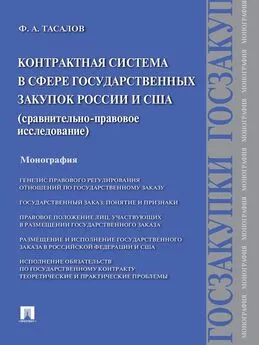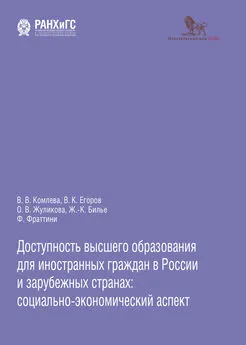Николай Эппле - Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах
- Название:Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1414-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Эппле - Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах краткое содержание
Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На этом семинаре я много думала о параллели, которая все чаще приходит мне в голову в связи с широким обсуждением исторической памяти, ее удивительных трансформаций в нашем обществе и ее роли в возможном переосмыслении и перерождении себя как нации. Мне эта тема чрезвычайно интересна, например, потому, что мои сибирские прабабушки и прадедушки — последнее поколение, про которое я что-то знаю «вглубь». Возможно, раскулачивание (очень жестокое) травмировало их до такой степени, что у всей огромной родни напрочь отбило память. Где-то смутно маячил какой-то далекий Санкт-Петербург, дореволюционная ссылка, но кто именно из предков и, главное, почему оказался в Сибири — неизвестно. Среди своих была в ходу такая шутка: мол, надо бы все же поискать в документах, а то вдруг Зимний дворец — наш; а может, лучше и не искать — вдруг выяснится, что мы там с кистенем под мостом стояли. Интересно поговорить о проблемах моей самоидентификации, которые в разное время являются то проблемами, то ресурсом. Иногда я чувствую «силу земли» и своих крестьянских корней, иногда — ощущаю их как кандалы, которые надели на какую-то мою «другую» личность.
Одиннадцать лет назад мы с мужем стали приемными родителями, и с тех пор я много читаю о работе с травмами прошлого, которые остаются у ребенка, усыновленного даже в самом юном возрасте. Сегодня приоритетным считается «открытое» усыновление (или другая форма принятия), когда нет тайны, потому что именно тогда появляется возможность открыто проговаривать с ребенком подробности его прошлого, помогать ему осознать, каким образом оно формировало его личность. Наш сын с самого начала знал, что он приемный, что у него была жизнь до нас, он охотно слушал рассказы о том, каким он был малышом и как любил кататься в коляске, но шло время, и он совсем не рвался услышать, а что же было «до». Крупицы информации, которую мы иногда осторожно проговаривали, он принимал молча, но самостоятельных вопросов почти не задавал. За эти годы я усвоила, что на успешную работу с историей ребенка и на его желание говорить об этом в принципе влияют несколько факторов, которые хорошо проецируются на работу с коллективной памятью.
Разговор о прошлом должен идти в обстановке, в которой ребенок чувствует себя абсолютно защищенным. То есть ситуация должна быть достаточно стабильной долгое время, перед ребенком не должно стоять задачи выживания или налаживания отношений с его новым взрослым. Если экстраполировать на сегодняшнюю попытку работы с исторической памятью — соблюдено ли это условие? Есть ли в отношениях условного «ребенка», народа, и его взрослого (и сразу вопрос — а кто это, государство? или общественная группа, интеллигенция, которая чувствует за собой право начинать такую работу?) достаточно доверительные отношения? Чувствует ли себя сейчас условный «ребенок» в достаточном комфорте, чтобы иметь возможность, говоря метафорически, «извлечь» свои корни наружу и порассматривать их некоторое время? И, возможно, увидеть, что корней-то и нет, или они совсем другие, или держаться на них было бы самоубийством? Что безопаснее в ситуации, когда ты борешься за выживание, — заниматься сегодняшним днем или копаться в прошлом? С точки зрения бессознательного — конечно, остаться в сегодня. Потому что лезть в прошлое — эмоционально очень затратная и потенциально опасная ситуация.
Ребенок должен быть уверен, что что бы ни открылось в его прошлом, какие бы страшные ужасы ни творились в его биологической семье, даже если он принимал в них некоторое участие, это будет не его вина, а его беда. Почувствуем разницу: не вина, а беда. Прошлое формирует нас, оно часть нашей идентификации, и встроить в себя очевидно плохой, бракованный компонент — с точки зрения дальнейшего выживания не нужно и неконструктивно. То есть для того, чтобы ребенок эту часть прошлого все же принял и пережил, она не должна стать для него обвинением. Посмотрим на сегодняшний дискурс в этой теме. Мы бесконечно говорим о «вине» — о вашей, о нашей. Мы так сильно обвиняем, так вымогаем покаяние, что возникает абсолютно закономерный контрпроцесс. Когда новые родители приемных детей начинают интенсивно поминать их прошлое в негативном ключе, обвиняя родителей и часто выдавая авансы и самим детям (ты в группе риска, потому что твоя мама…, твой папа…, вы там привыкли по помойкам, дома жрать нечего было…), у детей возникает отторжение и отрицание: нет, у нас все было хорошо, вы все врете, и ели мы хорошо, и папка пил только по выходным, а когда был трезвый — так вообще лучший на всем свете. Не те ли самые слова мы слышим сейчас от людей, которые отрицают «преступления прошлого»? Не этому ли удивляемся, когда читаем, как все отлично было в Советском Союзе, да, стояли иногда очередях, но не всегда же? Да, Сталин сколько-то там расстрелял, но зато… Это настолько естественный механизм защиты, что абсолютно неестественно другое — ему удивляться, его не учитывать или высмеивать.
Эффективнее всего терапия травмы идет, когда ее проводит не новый родитель, а третья сторона — максимально не вовлеченная — терапевт, психолог, специалист по работе с травмой. Что поделать, слишком много интересов у нового родителя: ему хочется быть «лучшим родителем», чем «те», ему хочется, чтобы та жизнь, которую он сегодня создает для ребенка, признавалась этим ребенком как безусловно лучшая и правильная, и человечная, чем та, которой он жил до этого. Ему часто хочется, чтобы ребенок вообще осудил и отрекся от своих корней. Потому что он теперь должен любить играть на скрипке и ходить в театры и продолжать интеллектуальные традиции той семьи, в которой он оказался. Но вот беда: отказ от корней, замена их более «правильными» не всегда означает благо для ребенка. И третья сторона способна увидеть это лучше, эффективнее и спокойнее с этим поработать. Вопрос: кто в обществе должен и способен взять на себя эту роль? Какие социальные институты? Кто бы это ни был, они должны быть не вовлечены в сегодняшнее противостояние интеллигенция — народ. Если интеллигенция хочет остаться (стать?) для народа авторитетом, ей следует отойти от высокомерной и обвиняющей позиции «безусловно хорошего родителя». Ее роль — помогать разделять боль от прошлого, сожалеть о прошлом, но не быть судьей. По крайней мере так видится из параллели, которую я здесь выстраиваю.
Успешность работы не определяется ее завершенностью. Мой личный опыт, наблюдения за знакомыми приемными семьями показывают: будет сто кругов, и на каждом круге — свой разговор о прошлом. Будут откаты и продвижения вперед, и снова откаты, и снова продвижение. Ценность этой работы — в самой ее возможности. Если такая возможность есть — мы говорим о конструктивных отношениях. Это к вопросу о том, следует ли считать успешной работу с памятью о войне в Германии, если сегодня в ней возможны процессы, вроде бы полностью отрицающие результат этой работы. Но такая работа вряд ли может считаться когда-либо завершенной. Если травма была действительно серьезной, если от нее действительно многое зависит в будущем, то новые исторические условия, новые поколения будут ставить этот вопрос раз за разом и раз за разом решать его заново. Конечно, чем подробнее прошли прежний круг, тем больше инструментов для разговора в нынешнем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: