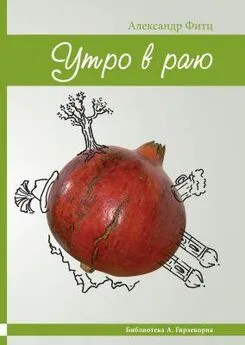Александр Солженицын - Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни
- Название:Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1764-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Солженицын - Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни краткое содержание
Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– А вы, наверное, их уже успели отправить Солженицыну?
– Нет, нет и нет! – вдруг обозлился я. – Они слишком интимны, и я не желаю, чтобы это стало предметом политической спекуляции, с любых позиций, – они не предназначены для печати и обнародования.
Так я действительно думаю, и я это же сказал А. И. в последнюю встречу. «Для чего же тогда писать?» – удивился А. И.
Постепенно вежливо-корректный тон начала «разговора» перешёл в явно враждебный и незамаскированно «опросный». То, что эти гаврики не долго удержались на первоначально задуманных позициях и явились мне всё в том же хорошо известном мне виде, меня не печалило нисколько, а подбадривало. Всё осталось на том же месте, по сути ничего в них не изменилось – те же приёмы, те же расчёты, та же примитивность. Ещё с цепи их не спустили, а зубами уже защёлкали, только сдерживаются. Но вот уже переходят к угрозам. После некоторой паузы, которую рыжий пытается сделать многозначительной, а чёрные очки зловещей, рыжий говорит:
– В общем, Александр Александрович, теперь всё будет зависеть от вас самих…
– Не понимаю, почему всё должно и будет зависеть от меня? Что вы хотите этим сказать? На что это намёк? Я считаю, что всё должно зависеть от объективных обстоятельств, а вовсе не от меня.
– Да, – уныло качает головой рыжий, – от объективных обстоятельств… Но для нас существенно выяснить вопрос «умысла», – говорит он «умудрённо», – вы понимаете, что значит умысел?
– Кое-какие представления об этом юридическом понятии я имею. А вот 25 лет тому назад здесь тоже всё предполагали да подозревали и ничего не нашли, не доказали, а 10 лет ИТЛ дали…
– Это были другие времена, – говорит рыжий.
Я криво улыбаюсь. Не получается разговор. Жду, что будет дальше.
– А что вы можете сказать про эту поездку на Юг 6-го августа 71-го года? – задаёт первый раз вопрос чёрные очки. Мгновенно в мозгу отщёлкивает: «кажется, промахнулись, ведь не 6-го, а 7-го отъехали, если не ошибаюсь», – и я без всякой заминки отвечаю:
– Ничего из этой поездки не получилось.
– Как не получилось?
– Да так, она не состоялась, и я просто отвёз Солженицына на вокзал.
– Как на вокзал!? – оторопел и весь на меня через стол наваливается чёрные очки. – Ну, знаете…
Я думал, спросят какой вокзал, да нет, не спросили.
– Ну что же, разговор у нас не получился, – говорит чёрные очки со злобой. И с угрозой!
– Да, не получился, – вторит ему рыжий и, не вставая со своего стула за столом, величественно протягивает руку к двери. Я понимаю, что «аудиенция окончена», встаю и направляюсь к вешалке, где висит моя шуба.
– А вы всё-таки подумайте как следует и позвоните нам.
– Нет, звонить я не буду, посылайте повестку.
– Значит, повестку? Окончательно?
– Да, повестку. Окончательно.
– И не вздумайте что-либо уничтожать у себя.
– Мне нечего уничтожать.
– Уже всё успели распихать? – срывается. – Как хорошо!
Не отвечаю. Одеваюсь.
– И не рекомендую говорить о сегодняшней встрече со Столяровой, несмотря на ваши близкие отношения. Мы её сами вызовем.
Не отвечаю, конечно, но моё лицо ничего, кроме омерзения, от этого шантажа выражать не может.
– А Чуковской можете рассказать…
Это ещё что за фокусы? А, наплевать!
Поворачиваюсь и собираюсь выходить. Из-за спины мне открывает дверь чёрные очки и даёт знак вертухаю у второй двери меня выпустить. Тот отворяет дверь, я выхожу из коридорчика, не оборачиваясь прохожу приёмную и выхожу на улицу. Спиной какое-то время чувствую взор чёрных очков.
На улице тот же день. Всё продолжалось часа полтора. Выхожу к «большому дому», потом на площадь, посреди которой стоит памятник. Вот здесь-то как раз накануне Святой Троицы я и передал «Архипелаг»! А вы – и не знаете!
Эх, хорошо же жить на белом свете! Из «Детского мира» звоню домой, потом иду выпить кофе на Сретенку… Ещё через день-два долго гуляю с Люшей по заснеженным дворам и задворкам в районе Миусских и Ямских улиц.
Хороший был день, удачный день! До сих пор я им доволен (и собой немного!).
Дважды пытался устным способом подробно передать в Вермонт о случившемся, но не получилось. С тех пор пока тихо. Вот, правда, ОВИР в 1977 отказал в поездке за границу. Но это мы переживём.
А. А. Угримов
Париж, 29 октября 1977
Дорогой А. И.!
…Ваши хорошие слова о моём возвращении ввергают меня в смущение – чуть неловко, словно люди тебя переоценивают, а ты помалкиваешь… А ведь всё получилось благодаря Вам, представьте себе. Ваша помощь помогла мне прожить на Западе год, почти ни от кого не завися (ни за что бы иначе не выдержала). Из-за Вас мне выпало никому не достающееся счастье – спокойно, свободно, сильно, глубоко выбрать , с сознанием, не обременённым ни принципами (Бог с ними, ни разу не понадобились), ни «чувством долга» (противопоказанная мне категория), ни даже сознанием пользы, которую могу принести (даже к себе не отношусь утилитарно). Год назад золотой осенний Париж вызвал чувство: ну вот, я в своём городе и никуда из него не уеду. Ан не получилось. Полная свобода, казалось бы, и «струя светлей лазури», и «луч солнца золотой», а уж я ли не ценитель! – а в сердце живая рана – клубок из любви и ненависти к великой, страшной, замордованной, растоптанной, безсмертной, «желанной», «долгожданной».
…Сегодня бродила по коридорам метро с пакетами для Москвы и вдруг услышала низкий русский голос у одного из тех нищих, что, сидя на полу, поют с гитарой. Смотрю – молодое русское лицо, и пел он «Полюшко, поле…». Пел хорошо, с тоской, многие останавливались. Я же постыдно плакала, отвернувшись к стене, плакала с такой горечью, словно год мне не давали выплакаться. О чём? О проклятии, висящем над нашей страной, о том, что люди – молодые, старые, хорошие, всякие – бегут, бегут, и каждый прав для себя, для своей единственной жизни. А «Россию – жалко».
Казалось бы, гнёт и страх испепелили даже само понятие свободы и достоинства, но тот же неумолимый пресс над духом неожиданно удесятерил потребность в свободе и достоинстве. Не так лагерь, как русская «воля» научила меня ценить как ничто на свете свободу (жить, двигаться, мыслить), которой мы так страстно добиваемся. И ради этой страсти, этой напряжённой жизни, в которую мы – «акробаты поневоле» – тщимся вместить свободу и достоинство, ради этого я, собственно, и возвращаюсь. Да, мне лучше жить там , прислушиваясь к ночным шагам по лестнице, судорожно унося утром из дома всё взрывное после долгого ночного звонка в дверь (потом выяснилось – ошибка «скорой помощи»), жить, непрерывно обманывая «всевидящее око» (и ухо) и хоть частично используя то книжное богатство, которое так обидно-легко плывёт ко мне в Европе, хоть частично удовлетворить вокруг себя неиссякаемую жажду к слову правды. Может быть, потому так ревниво блюла [во время западных путешествий. – А. С. ] формальную непорочность паспорта, отметая возможность формального препятствия вернуться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: