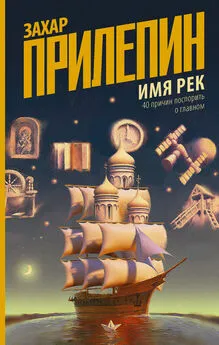Захар Прилепин - Имя рек. 40 причин поспорить о главном [litres]
- Название:Имя рек. 40 причин поспорить о главном [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-122205-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Захар Прилепин - Имя рек. 40 причин поспорить о главном [litres] краткое содержание
Перед вами – итоги моих болезненных размышлений о нашем с вами Отечестве.
Чтоб понять, кто мы и зачем, нужно было заново пересобрать все представления, и я бережно, с тщанием ребёнка, пересобрал.
В какой точке бытия находимся мы и куда следуем. Что есть Родина. Какое отношение мы имеем к Древней Руси. Насколько близки к нам князья династии Рюриковичей и кто для нас Грозный Иоанн. Как мы из дня нынешнего видим “белых”, и что нам думать о “красных”. И прочие попутные вещи, осмыслять которые мы не перестанем ещё долго: Великая Отечественная и бесовские пляски вокруг неё, украинский, погрязший во лжи, вопрос, Владимир Семёнович Высоцкий, российские демократы, русский, берега потерявший, рок, земля у нас под ногами и звёздочка у нас над головой.
Беспощадные русские вопросы, милосердные русские ответы».
Захар Прилепин
Имя рек. 40 причин поспорить о главном [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кажется, никто тогда не догадывался о вопиющем абсурде происходящего.
У товарищей в кабинетах был совсем другой план – никакой костью в горле рок-н-ролл им не вставал. Если это была кость, то как раз та самая, что бросили массам: грызите, и не отвлекайтесь.
Гребенщиков, допущенный на экраны советского телевидения несколько раньше – впервые его показали ещё в 1982 году, – был прозорливее, спев: «В игре наверняка что-то не так».
Что именно – он не знал. До сих пор, кажется, не знает; или, верней, отказывается знать.
Один из ответов безжалостно предложил Илья Кормильцев, автор текстов для лучших песен «Наутилуса». «Мы имеем дело со старинным филистерским трюком: конвертацией гнева поэтов в политический капитал власть имущих», – сказал он.
В своё время Кормильцев вспомнил забавную и много объясняющую историю о своей свердловской молодости. Они же все из Свердловска: и «Наутилус», и «Чайф», и братья Самойловы, и Настя Полева, и многие прочие наши полубоги. Однажды Кормильцев с рок-н-рольными друзьями закатились к своей знакомой из партийного семейства, и тут явился её высокопоставленный отец.
– Вижу, молодёжь отдыхает? – сказал отец; его голос позже будет знать вся постсоветская Россия. – А как насчёт того, чтобы отдохнуть с молодёжью?
Разлили ром, и партийный хозяин, взяв стакан в здоровенную неполнопалую лапищу, предложил тост:
– Давайте выпьем за вас, за молодых. Вы ещё нам очень понадобитесь.
Это был Ельцин. Перестройка даже ещё не начиналась. А Борис Николаевич уже о чём-то догадывался.
В игре наверняка было что-то не так, но наши полубоги стали в неё с удовольствием играть.
«Мы перемещались со стадиона на стадион с таким видом, словно лично отменили Советскую власть», – расскажет, иронизируя над самим собой и своими собратьями, Борис Гребенщиков.
Дети, выросшие позже, до сих пор уверены, что русский рок-н-ролл многие годы сражался с проклятым советским режимом, мотал за это сроки, терпел жуткие пытки, но тайны не выдал, и, много позже, в неравной борьбе победил.
Ибо спел «всю правду».
«Пусть кто-нибудь найдёт хоть одну антисоветскую строку в доперестроечном русском роке – и я возьму свои слова обратно», – издевался по этому поводу Илья Кормильцев.
Кормильцев прав: в нашем рок-н-ролле не было ничего политического; умеренные социопаты, они пели про свою долю инженера на сотню рублей, восьмиклассницу и цветные сны.
«Запад мы, конечно, уважали, – продолжал Кормильцев, – но примерно как древние греки своих богов – без пиетета. Барды были нам точно не родня – Высоцкого (и Северного) сдержанно уважали, за упоминание же об Окуджаве или Галиче можно было конкретно получить в хлебало. Антисоветчина – что сам-, что тамиздатовская – вызывала однозначную враждебность».
Никакой диссиды там и в помине не было.
Чуваки хотели играть свои песни на хорошем аппарате – и ничего больше. На Западе предоставить это своим чувакам догадались почти сразу, а у нас – с некоторым запозданием; и с другими целями.
Когда бывшее комсомольское начальство подмигнуло и дало знак, что теперь можно что-нибудь и пожёстче спеть, – спели пожёстче: про «выйти из-под контроля» и «полковника Васина». Но – уже в самый разгар перестройки. Ни днём раньше.
«Мы утешали себя тем, что сами не лжём, – расскажет Кормильцев. – Цой пел: “Мы ждём перемен” – разве это не так?»
Ждали, да.
«Мы были слишком наивны, – констатировал Кормильцев, – чтобы понимать: будущее принадлежит тому, кто владеет монополией на интерпретацию настоящего. “Скованные одной цепью” – пели мы, а какой-нибудь Коротич объяснял, что речь идёт о шестой статье Конституции.
Мы приезжали в Москву – и нас тут же, как кита рыбы-прилипалы, облепляли незнакомые нам благожелатели. Одни просто хотели заработать денег, и эти были самые безобидные. Другие же самозабвенно ваяли идеологические основания нового режима.
Третий Рим всегда прикармливал клиентелу из идеологических лакеев и проституток, находящихся в постоянном творческом поиске высоких покровителей. С падением советской парадигмы наступило их осевое время. И время нашего Позора. Хотя внешне оно и выглядело временем нашей Славы».
Зададимся простым вопросом: мог ли во всём этом находиться Башлачёв?
У него была одна песня, «Случай в Сибири», которая ещё в 1984 году объяснила, с кем нам вскоре придётся иметь дело.
Согласно сюжету песни, Башлачёв разговаривает с одним собутыльником. И тот затирает Башлачёву о том, что Сибирь – глушь, а настоящая жизнь – в столицах, и даже не в наших, а в европейских. Пора валить, в общем.
Башлачёв, уставший от этого тошнотворного разговора, берёт гитару и поёт что-то из своего. В ответ собутыльник рассыпается в похвалах:
Ловко врезал ты
по ихней красной дате.
– то есть, по «советскому», или, как сегодня говорят – но как никогда бы не сказал сам Башлачёв, – по «совку».
Но Башлачёв точно не рассчитывал на такое понимание спетого им:
Я сел, белее чем снега́.
Я сразу онемел как мел.
Мне было стыдно, что я пел.
За то, что он так понял.
Что смог дорисовать рога
он на моей иконе.
Башлачёвская икона – это, конечно же, Родина как таковая; пусть даже на тот момент она была советской.
И далее Башлачёв снова цитирует своего собеседника.
Как трудно нам – тебе и мне,
– шептал он, —
жить в такой стране
и при социализме».
Он истину топил в говне,
за клизмой ставил клизму.
Тяжёлым запахом дыша,
меня кусала злая вша.
Чужая тыловая вша.
Знакомый нам человеческий тип, не правда ли, – «чужая тыловая вша»? Мы к этому типу – который всё повторяет и повторяет нам, как трудно ему жить в такой поганой, рабской, холопской стране, – до сих пор никак не можем привыкнуть, а Башлачёв его описал в 1984-м.
Не загадка ли: откуда ж он знал? Каким образом он всё понял, не пережив ни 91-й, ни 93-й?
И вот Башлачёв отвечает своему собеседнику:
Не говорил ему за строй.
Ведь сам я – не в строю.
Да строй – не строй.
Ты только строй.
А не умеешь строить – пой.
А не поёшь – тогда не плюй.
Я – не герой.
Ты – не слепой.
Возьми страну свою.
Именно это Башлачёв завещал всем нам за несколько лет до распада империи. Не умеешь петь – не плюй, возьми – то есть, прими, пойми, полюби – свою страну.
В девяностые Башлачёва представить невозможно. Можно попробовать Высоцкого вообразить – хотя и он не помещается. Но Высоцкий крепко себя чувствовал внутри социума – Башлачёв же и в этом смысле был совсем неприспособлен к игре.
Есть какая-то мистика в том, что Цой умер в августе 1990-го, а Майк Науменко – в конце августа 1991-го, сразу после распада Советского Союза.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Захар Прилепин - Имя рек. 40 причин поспорить о главном [litres]](/books/1066958/zahar-prilepin-imya-rek-40-prichin-posporit-o-glav.webp)




![Захар Прилепин - Истории из лёгкой и мгновенной жизни [litres]](/books/1073694/zahar-prilepin-istorii-iz-legkoj-i-mgnovennoj-zhizn.webp)


![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны: 2013-2021 [litres]](/books/1143112/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres.webp)