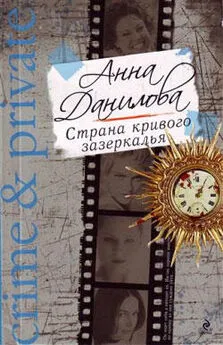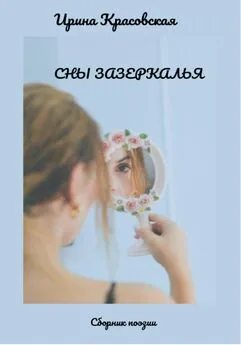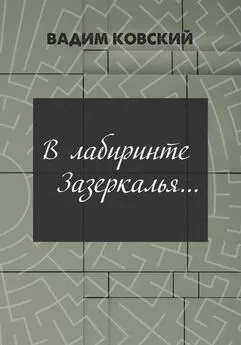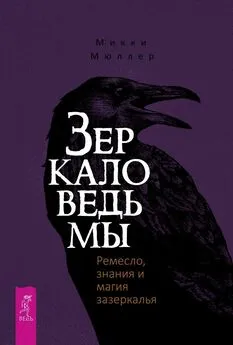Вадим Ковский - Ландшафты Зазеркалья
- Название:Ландшафты Зазеркалья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Ковский - Ландшафты Зазеркалья краткое содержание
Ландшафты Зазеркалья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
13 мая 1956 года застрелился Александр Фадеев, многолетний руководитель Союза писателей. Его предсмертное письмо в ЦК КПСС у нас решились опубликовать только в 1990-м: «Не вижу возможности жить дальше, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии <���…>. Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожили, идеологически пугали и называли это партийностью <���…>. Невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических порок, которые обрушились на меня».
Сама идеология, впрочем, к 1932 году уже выполнила главную задачу. Она подготовила почву и проложила рельсы, по которым затем, без малейших усилий, покатилось «красное колесо». С оппозиционно настроенными прозаиками расправлялись по-разному. Горького, по многим приметам, в конце концов «со всеми почестями» тайно убили. Бориса Пильняка, Исаака Бабеля, Глеба Алексеева, Ивана Катаева и многих других расстреляли без особых церемоний. Андрея Платонова топтали сколько могли и, по существу, погубили его сына. Александра Грина перестали публиковать, и он умер в нищете, не дожив полутора десятков лет до времени, когда ничего не забывавшая власть объявила его проповедником фашизма и «буржуазным космополитом». Михаил Булгаков, славший отчаянно смелые письма в правительство с призывом выпустить его за границу, поскольку в СССР ему не дают ни дышать, ни работать, поддался на сомнительное благодеяние «отца народов», устроившего его ассистентом режиссера во МХАТ. Увы, и крупных художников режим иногда ловил «на честном слове, на кусочке колбасы». Михаил Зощенко подвергся государственному остракизму формально за конкретное произведение, а по существу — за все написанное, «по совокупности».
Не лучше обстояли дела и в русской поэзии. Уехали Вячеслав Иванов и Георгий Иванов. Николая Гумилева расстреляли. Анна Ахматова после его гибели, не поддавшись «утешному голосу», что ей ни в малой степени не помогло, осталась на родине, но в полной изоляции. Сына ее советская власть, терроризируя мать, то сажала, то выпускала. С 1946 года пришлось жить с клеймом, по определению Жданова, «полумонахини, полублудницы». Марина Цветаева, эмигрировав в Европу, не прижилась там и, вернувшись в Россию, покончила с жизнью. Федор Сологуб, уже ничего собой при советской власти не представлявший, чтобы не помереть с голоду, руководил секцией детских поэтов при ленинградском Союзе писателей. Маяковский, которого Сталин считал «лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи», — застрелился, а Есенин, которого лучшим советским поэтом считал Бабель (а его художественному вкусу почему-то хочется доверять больше, чем сталинскому), повесился. Есть, правда, версия, что Есенина убили, но это в общей картине ничего не меняет.
Была практически под корень вырублена вся крестьянская литература с ее поэзией и прозой. А какие там были имена: Николай Клюев, Сергей Клычков, Павел Васильев! На другом же фланге, художественно, казалось бы, прямо ей противоположном, уничтожили обэриутов. Какое несомненное свидетельство «широты эстетических интересов» советской власти!
Крестьянских писателей колесо террора переехало самым фундаментальным образом. Большинство из них подлежало уничтожению в качестве авторов «кулацких» произведений, художественно документировавших свою враждебность советской власти. В высшей степени показательны ответы на допросе Николая Клюева, чья прямота превосходит любые ожидания: «Какое выражение находят ваши взгляды в вашей литературной деятельности?» — «Мои взгляды нашли исчерпывающее выражение в моем творчестве, — говорит Клюев. — Мой взгляд, что октябрьская революция повергла страну в пучину страданий и бедствий, <���…> я выразил в стихотворении „Есть демоны чумы, проказы и холеры…“. Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни <���…>. Это я выразил в своей „Песни Гамаюна“ <���…>. Мой взгляд на коллективизацию как на процесс, разрушающий русскую деревню и гибельный для русского народа, я выразил в своей поэме „Погорельщина“».
Борис Пастернак, каким-то чудом сохраненный Сталиным, видимо, за свою трудно объяснимую любовь к вождю («повинуюсь чему-то тайному, что помимо всем понятного и всеми разделяемого привязывает меня к Вам»), был все-таки вынужден на склоне лет отказаться от Нобелевской премии и просить власть, чтобы его не изгоняли из страны.
Герой рассказа Бабеля «В подвале», мальчик «двенадцати лет отроду», «совсем еще не знал, как ему быть с правдой в этом мире». Сорокачетырехлетний Бабель на собственном опыте наконец узнал, «как там, в камерах». Но и наше, пользуясь словами Б. Пастернака, «небывалое, невозможное государство» знало, чего от Бабеля и от его правды ожидать. Рукописи ему, разумеется, не вернули. Наследники тщетно разыскивают их по сей день. Покаянного рассказа о своей неправильной «жизни в революции», который он обещал Берии написать, он, слава богу, нам в наследство не оставил…
В июле 1954 года Пастернак еще полон надежды, что в России возможна победа добра. Надежда эта тлела в нем, я думаю, до той поры, пока советская власть, можно сказать абсолютно беспричинно, не превратила автора романа «Доктор Живаго» в диссидента и врага отечества № 1 («Что же сделал я за пакость, / Я убийца и злодей? / Я весь мир заставил плакать / Над красой земли моей»). Тогда же он наивно написал З.Н. Нейгауз: «Вчера зашел Федин и рассказал неожиданные вещи. Пересматривается „дело“ Бабеля, и есть сведения, что он жив и выйдет на свободу. Уверяют, что видели вернувшегося Чаренца, которого все считали расстрелянным. Отчего не может это случиться с Тицианом (Табидзе. — В. К.) и Пильняком?»
Это не могло случиться по одной простой причине: все персонажи фединского сообщения были давно уничтожены. Бабеля, вопреки ложной дате «Краткой литературной энциклопедии», расстреляли 27 января 1940 года в 1:30 ночи. В списке из шестнадцати человек, составленном строго по алфавиту (орднунг!), он шел под номером вторым…
СОПРОТИВЛЯЮЩАЯСЯ ЛИТЕРАТУРА
Послеоктябрьская российская действительность в кратчайшие сроки породила литературу, принципиально отличавшуюся от прежней. Захлестываемая волнами революции и Гражданской войны, она была отмечена драматическими противоречиями между гуманизмом и классовой ненавистью; тяготением к классической традиции и неудержимым стремлением к разрыву с ней; усложнившимися художественными звучаниями и требованиями полуграмотной читательской массы, нуждавшейся в прямолинейном выражении авторской позиции.
За всеми этими противоречиями стояла реальная общественная практика революционной эпохи с ее диктатом предельно жесткого, функционально-классового отношения к культуре. Содержательная новизна порождала тот напряженный интерес к проблемам формы, который в литературном процессе 1920-х и даже первой половины 1930-х был очень силен. «Метод» и стиль, который принято будет впоследствии называть «социалистическим реализмом», воцарился в дооктябрьской литературе далеко не сразу. Вероятно, никому не придет в голову рассматривать под этим знаком имена И. Бабеля, М. Булгакова, А. Ахматовой, Е. Замятина, О. Мандельштама, М. Цветаевой, Б. Пастернака, М. Пришвина, М. Зощенко, Н. Заболоцкого, даже А. Платонова, великого писателя, создавшего вопреки своим коммунистическим взглядам самую беспощадную сатиру на советскую власть. Но ведь и целый ряд других писателей, принявших революцию и гораздо менее известных, таких как Михаил Слонимский, Михаил Козырев, Иван Катаев, Юрий Слезкин, Пантелеймон Романов и других, тоже сплошь и рядом по своим творческим принципам не укладывается в каноны «партийности», «народности» и так называемой «правды жизни в ее революционном развитии». Художественное мировосприятие этих писателей всеми силами сопротивлялось наступлению новой действительности на традиционные гуманистические ценности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: