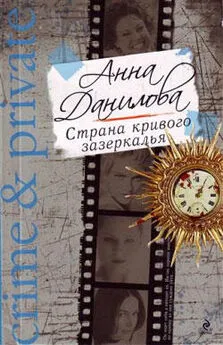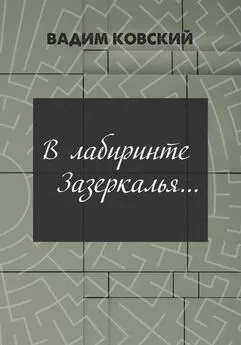Вадим Ковский - Ландшафты Зазеркалья
- Название:Ландшафты Зазеркалья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Ковский - Ландшафты Зазеркалья краткое содержание
Ландшафты Зазеркалья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Сопротивляющиеся» произведения первого ряда и имена их создателей исследованы вдоль и поперек, и я сознательно делаю сейчас объектом рассмотрения литературу второго ряда, тот планктон, достаточно случайно попадавшийся мне на глаза, кроме, разумеется, имени Горького, который и представляет реальный литературный процесс. При этом сама принадлежность Горького к ордену соцреализма, да еще в роли его основоположника, вызывает у меня чем дальше, тем больше сомнений (за исключением разве что нескольких ранних романтических манифестов, деклараций отдельных персонажей и считанных публицистических статей). Стоит назвать «Челкаша», «Мальву», «Детство», «Дело Артамоновых», «Фому Гордеева», «Коновалова», «Вассу Железнову» и мало ли что еще — не вижу я там социалистического реализма даже в лупу! Да и злосчастный роман «Мать» Д. Быков, например, рассматривает сегодня с совершенно иной точки зрения — сквозь призму религиозной символики.
Сам Горький не раз пытался отрефлексировать новые оттенки своего мировоззрения и в прозе, и в письмах. Вот, к примеру, письма Горького М. Слонимскому из Италии, датируемые 1925 годом. Он упрекает адресата: «Вы несколько робеете перед Вашим материалом и, хорошо чувствуя иррациональное в реальном — в фактах, — не решаетесь обнаружить это ирреальное, полуфантастическое, дьявольски русское (курсив мой. — В. К.) во всей его полноте». Или замечает по поводу повести Булгакова «Роковые яйца»: «Поход пресмыкающихся на Москву не использован, а подумайте, какая это чудовищно интересная картина».
История русской литературы ХХ века насыщена неизученными именами, непроясненными фактами, невыявленными взаимодействиями, и это состояние сохраняется в том или ином виде до сих пор. Независимо от своего отношения к революции и советской власти послеоктябрьская литература с самого начала была проникнута острым ощущением стремительности, исторически беспощадной динамики социальных перемен. Перемены во многом знаменовали, если воспользоваться блоковской формулой, «крушение гуманизма», перед лицом которого деятели культуры должны были каким-то образом устоять и не разрушиться.
Находясь в вынужденной эмиграции, сам Горький после исторических потрясений, перевернувших с ног на голову всю российскую, в том числе и его собственную жизнь, создает ряд рассказов, столь же неожиданных для «буревестника революции», сколь неожиданными были ранее «Несвоевременные мысли». Они составили книгу, названную по времени написания «Рассказы 1922—1924 гг.». В своеобразный художественный цикл их превращает господствующее здесь чувство изумления и даже растерянности перед открывшимся взгляду Горького, по природе достаточно рациональному, катастрофическим разломом социального и национального мира, ввергнутого в пучину октябрьского переворота. Изумления и растерянности, несмотря на то что Горький долго приуготовлял себя к грядущим общественным катаклизмам и даже романтически торопил их в начале своего творческого пути…
В каком-то смысле не было в России интеллигента, не испытавшего чувств, подобных горьковским. Они затронули ведь и самого «изобретателя» русской революции. По воспоминаниям Горького, Ленин отмечал, что «все, до последнего человека, втянуты в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась». Более того, не кто иной, как Ленин, вынужден был признать: старое разваливается «со страшным шумом и треском», новое рождается «в неописуемых муках», классовая борьба доведена «до крайнего обострения», а массы, ее ведущие, — «до одичания». И все же ленинская позиция была куда оптимистичнее позиции Горького, который в 1917—1919 годах резко полемизировал с вождем российского пролетариата. В полном объеме полемика стала нам известна лишь много десятилетий спустя. А переписка в публиковавшейся своей части долго была сведена к поучающим письмам Ильича. То, что в глазах Горького выглядело разрушительным хаосом и воспринималось трагически, Ленин аттестовал как хаос «кажущийся». Насилие, при виде которого писателем овладевало отчаяние, он считал неизбежным, длительным, справедливым и даже «священным». Возглавленная Горьким борьба интеллигенции за сохранение культуры подчас отождествлялась Лениным с «визгливыми воплями» «трепещущих от страха» «интеллигентиков».
С предельной откровенностью и прямотой публициста выступив в «Несвоевременных мыслях» в защиту разрушаемой неистовством революции культуры, Горький перевел в рассказах 1922—1924 годов эту проблематику в иной, художественно-психологический, план. Будучи признанным адептом литературы идеологизированной, «объясняющей» и воспитывающей, он глубоко задумался тогда о «полуфантастической» сложности человека, об «алогизмах» человеческой психики, которые никакая идеология удовлетворительно объяснить неспособна; о политике и политической борьбе — как о чем-то, затемняющем родовую сущность человека, разжигающем в нем низменные инстинкты.
Наперекор издавна выработанным принципам Горький уклоняется в этих рассказах от авторского волеизъявления и оценок, целиком отдавая повествование на откуп персонажам, позволяя им без поправок и вмешательства высказывать идеи, мало вяжущиеся с традиционным идейным обликом автора. Так, в «Караморе» звучит, например, панегирик Достоевскому, с которым Горький полемизировал на протяжении всей своей жизни. Существо панегирика, его объективный смысл вовсе не меняются от того, что вложен он в уста человека, легко перешагивающего на практике все границы добра и зла. А сами понятия добра и зла приобретают в рассказе сугубо релятивистский оттенок: «Вот когда я чувствую Достоевского: это был писатель, наиболее глубоко опьянявшийся… игрою многих в себе одном. Раньше я читал его с недоверием: выдумывает, стращает людей темнотою души человека <���…>. Смирись, гордый человек!» Но «если это смирение и нужно было Достоевскому, то — между прочим, а не прежде всего», — рассуждает герой Горького. Ведь главное для Достоевского иное: не примитивное деление людей по классовым признакам — «пролетариат» и «буржуазия», а стремление отделить «цельных» людей, сознательно гасящих в себе «многообразие внутренней жизни», от людей «раздвоенных», «запутанных», коими «жизнь украшается»…
«Старый партиец» по кличке «Карамора», «один из самых энергичных работников наших», изменяет «своим» и становится провокатором. В немалой степени потому, что одолевает его коварный вопрос: а не врут ли «все эти „учителя жизни“, социалисты, гуманисты, моралисты»? Ведь быт их столь резко противоречит «убеждениям», «принципам», «догматам веры», а приемы фракционной борьбы отличаются «бесстыднейшим иезуитизмом» и «жульническими подвохами» «азартных игроков». При этом ответ герою заранее известен: социалисты, революционеры — «неглупые, честолюбивые люди», которые, «не имея в жизни места, достойного их», законно «стремятся к власти». Ради данной цели они возбуждают в массах вовсе не «энергию разума», как им хочется думать, но «только инстинкты: зависть, злобу, месть».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: