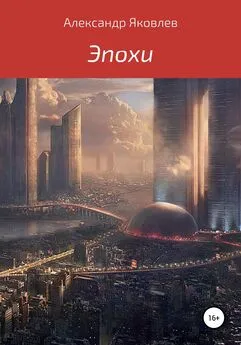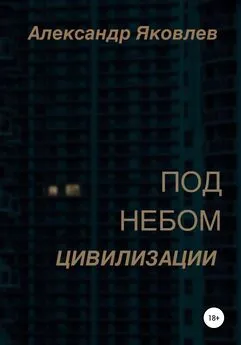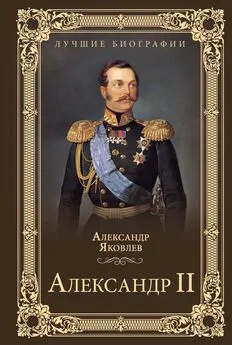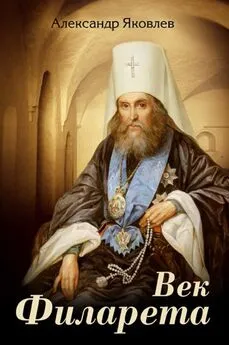Александр Яковлев - Выступления [Сборник]
- Название:Выступления [Сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Яковлев - Выступления [Сборник] краткое содержание
Выступления [Сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мы рождаемся в муках. Кареты скорой помощи и пожарные команды нам не помогут.
Так уж повелось в нашей истории. Снова и снова повторяются гримасы власти, игры элит.
И мы постоянно задаем себе вопрос: так кто же мы такие, если многие столетия выворачиваем себя наизнанку, корчимся в судорогах бесконечной гражданской войны — горячей и холодной. Мы совершили четыре революции, пережили две мировые войны, ленинско-сталинские репрессии, которые были не только геноцидом какого-то одного народа, а геноцидом всего народа. Почему?
В истории России было до 20 разных перестроек, начиная с Ивана Грозного. Но все они кончалась провалом. Почему?
Мы с энтузиазмом приняли идею коммунизма, потеряв в борьбе за него более 60 миллионов человек. Почему?
Мы легко подпали под власть диктатуры. Почему?
Итак, бесконечные загадки, которые будут преследовать нас еще многие и многие годы.
Что внушает мне оптимизм и надежду? Несмотря на все трудности и потрясения, кипение страстей и лишения, кризисы и переломы, ситуация в российском обществ в целом не становится иррациональной. Скорее наоборот, в ней нарастают элементы рациональности и прагматизма. Иногда чрезмерные — но это, в сущности, естественно.
Российское будущее будет достойным и великим — но при условии, если забудем о химерах и утопиях и научимся, наконец, буднично и прагматично заниматься простыми повседневными вещами.
Эта проблема — тоже из мира российских загадок, о которых я хотел вам рассказать.
Выступление на конференции «Десятилетие падения Берлинской Стены»
Рим, 4 июня 1999 г
ДИССИДЕНТСТВО В РОССИИ
Уважаемые дамы и господа!
Среди проблем, о которых сегодня говорили все выступающие, я бы позволил себе повториться и сказать несколько слов о диссидентстве в Советском Союзе и его роли в освободительной борьбе.
Скажу сразу: говорить о диссидентстве нелегко. Задолго до меня много было сказано гневного и покаянного, непреклонно-обвинительного и милосердного.
Нелегко и потому, что появилась тенденция…
Трудно и потому, что протест нашей совести в своей очистительной работе пока что ограничен трагическими судьбами одиночек, тех, для кого Добро было не только нравственной исповедью, но и смыслом жизни.
Убежден, обществу не избежать оценки и самого себя, не избежать покаяния.
Диссидентство — это, по Солженицыну, явление чуда. И оно перво-наперво ассоциируется у нас с именами Солженицына и Сахарова, Ростроповича и Эрнеста Неизвестного, Бродского и Шемякина, Войновича и Коржавина, Чалидзе и Буковского, Синявского и Григоренко, Щаранского и Ковалева, бесстрашных и прекрасных женщин, прежде всего Е. Боннэр, Л. Богораз, Л. Чуковской, Л. Алексеевой и многих других.
Между тем, любое общественное явление не может отождествляться только с конкретными его носителями, диссидентство — в особенности. И уж тем более оценку личности лишь условно можно перенести на явление, как и оценку явления надо по меньшей мере весьма осторожно распространять на личность.
Достаточно задаться вопросом: можно ли, правомерно ли считать всепоглощающим знаком диссидентства только Александра Солженицына, масштабы личности и таланта которого хорошо известны. Или Андрея Сахарова — личность столь же крупную, яркую и талантливую.
Если кто-то ответит на эти вопросы утвердительно, то, спрашивается, как у одного и того же явления оказываются два столь различных символа? На мой взгляд, Сахаров и Солженицын соединились не по собственной воле и не по естественной логике вещей. В свободной демократической стране они скорее были бы в разных политических объединениях. Их бросила друг к другу общая для них сила. Сила эта — протест против официальной установки на всеобщую нетерпимость, на всевластие лжи.
У диссидентства как явления — две стороны. Одна — конкретные люди с их судьбами, идеями, поисками и переживаниями. Люди живые и ушедшие. Люди-жертвы, люди-борцы. Они заявили открыто о своей позиции и отстаивали ее перед властью, да и перед значительной частью общества.
Здесь — одна линия оценок. Урок крайне существенный: и один в поле воин, если личность.
Но есть и другая сторона. Трагедия общества состоит в том, что несколько десятилетий репрессии получали достаточно широкое одобрение в стране. Есть нравственные уроды и сегодня, призывающие предать смерти своих политических противников.
Что знал советский человек о диссидентах? Мало и путано. Знал отдельные имена, их судьбы. Но далеко не полностью, преимущественно из легенд и слухов, как и от наветов, и недоброго отношения. Да и не хотел знать.
Не знал самого главного: существа их взглядов, работ и концепций, гражданских, политических, художественных позиций. А за пределами пяти-шести имен чаще всего не знал никого и ничего.
В массе своей люди не понимали, что такое диссидент и диссидентство. Коварно подобранное иностранное слово психологически создавало впечатление связанности лиц, которых так называют, с чем-то враждебным: с империализмом и сионизмом, НАТО и ЦРУ, вообще с чем-то международно-космополитически-нехорошим.
Диссидентство многообразно. На одном полюсе — творцы, мыслители, художники. На другом — местные правоборцы, «чудаки», часто просто неуживчивые, «конфликтные» люди. Такие есть в каждом коллективе, каждой деревне или поселке и уж, конечно, в городах. С позиций начальства такие люди очень «неудобны». С подобным отношением мы встречаемся и сегодня. Местные начальники не любят вольнодумцев и безнаказанно нарушают конституционные права человека.
Из этих разных жизненных представлений и составляется в общественном сознании образ диссидента. И выпадает из этого образа самый распространенный, наименее известный и потенциально весьма важный для общества тип иначе думающего. Это — люди, отмеченные способностями и знаниями, нравственностью и гражданской активностью. Люди, которым действительно было что сказать согражданам, но как раз по этой причине они и преследовались.
Именно обоснованность выводов, здравость предложений и выдавались за антисоветизм. И коль скоро сегодня соглашаемся с очевидностью такого анализа, то должны согласиться и с другим: те, кто с риском для себя и своей семьи высказывали свои мысли, возможно, и были по-своему чудаками, но уж без всяких сомнений — настоящими патриотами.
Я думаю, несправедливо считать, что политика преследований была направлена только против свободомыслящей части писателей, художников, ученых, творческой интеллигенции вообще. Она была нацелена вообще против всего самостоятельного, инициативного, самобытного, ищущего. Так убивалась любая новая мысль.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Яковлев - Выступления [Сборник]](/images/nocover.webp)
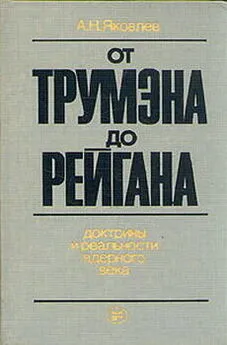
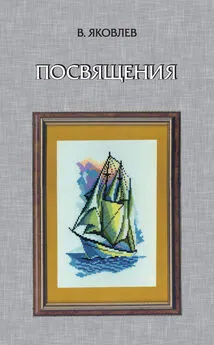
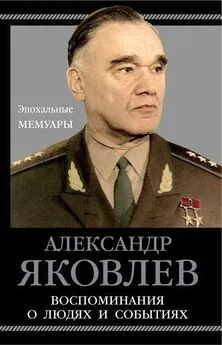
![Александр Яковлев - Осенняя женщина [Авторский сборник]](/books/1098914/aleksandr-yakovlev-osennyaya-zhenchina-avtorskij-sborn.webp)