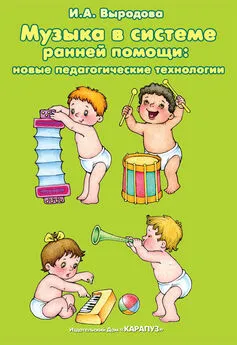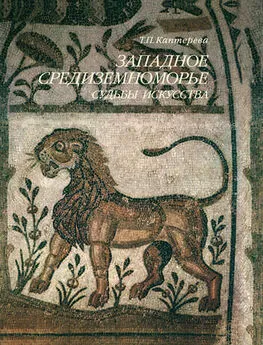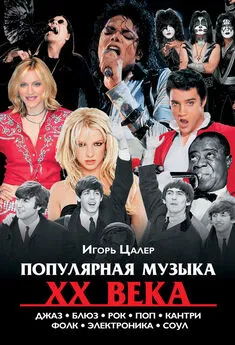Татьяна Чередниченко - Кризис общества-кризис искусства. Музыкальный авангард и поп-музыка в системе буржуазной идеологии
- Название:Кризис общества-кризис искусства. Музыкальный авангард и поп-музыка в системе буржуазной идеологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Музыка
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Чередниченко - Кризис общества-кризис искусства. Музыкальный авангард и поп-музыка в системе буржуазной идеологии краткое содержание
Для широкого круга читателей.
Кризис общества-кризис искусства. Музыкальный авангард и поп-музыка в системе буржуазной идеологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В шуме Руссоло видел залог бесконечного многообразия «музыкальных» эмоций, причем связывал перспективу этой бесконечности с ростом армии машин. «Многообразие шумов бесконечно. Сегодня, когда мы имеем, может быть, тысячу машин, мы можем различать 10, 20 или 30 тысяч различных шумов» 35.
В десятилетие между 1929 и 1938 годами было написано около 30 сонат, кантат, симфонических поэм, балетов, в партитурах которых имелись партии наковален, пил, самолетных двигателей и т. п. 36. Одно из самых нашумевших (в прямом и переносном смысле) произведений этого «металлического демонизма» принадлежало пианисту и композитору Г. Антейлю. Партитура его «Механического балета» (1926) включала от четырех до шестнадцати роялей (последняя цифра была зарегистрирована при исполнении в Нью-Йорке), а также звонки, пилы, наковальни — и «гремевший аэропропеллер» 37. Руссоло для своих опусов «Просыпающийся город» и «Свидание автомобиля и аэроплана» (названия этих произведений тоже звучали как своего рода манифесты «металлического демонизма» и механической скорости) в 1914 году изобрел особый шумовой инструмент 38.
Шум, скорость и воплощавшие их машины служили для футуристов своего рода противовесом к традиционному представлению об обязательной для деятеля искусства творческой и человеческой неповторимости — гениальности. Руссоло видел в шумах «современную альтернативу общему понятию музыки и культу гения» 39. Он и Прателла называли себя «в пику» этому «устаревшему культу» «ремесленниками и техниками» 40. Но тут же возникал новый культ — культ «ремесленников и техников». Отсюда категоричность и агрессивность призывов: «Живопись звуков, шумов и запахов требует: красного, кррррасного, кррррраснейше кррррррасного, который кричииииииит!» 41; «Запретить категорически все исторические реконструкции», — призывает Прателла 42; «Я триумфально завоевал Италию, — писал тот же Прателла, — публику, критику, издателей… Молодые последуют за мной — вперед, по дороге будущего, проложенной мною со славой, проложенной нами, бесстрашные братья» 43.
Бунт против традиций принимал форму не просто их отрицания («запретить баллады, типа пишущихся Тости и Коста, отбросить неаполитанские песни и духовную музыку как не имеющие больше оправданий для существования», — писал Прателла "), но и абсурдистской насмешки над ними. «Известен ли символ большей смехотворности, чем когда 20 человек неистово раскачиваются, пытаясь усилить звук мяукающей скрипки?» — риторически вопрошал Руссоло, выстраивая пьедестал для своей «музыки шумов» 45. Одна из симфонических пьес («антисимфония») эпохи футуризма называлась «Круговая музыкальная гильотина» 46. Названиями ее частей (типа «Подводный самолет», «Отверстие хаотического жерла», «Фа-диезик мажор») автор словно заявлял о своем дистанцированно-равнодушном и ироническом отношении к традиции («фа-диезик», погибающий под наводкой «хаотического жерла»).
Идейный словарь манифестов итальянских футуристов был эклектичным. В нем совмещался фетиш «революции», «прогресса», плоско понятого как «размножение машин» (Руссоло), с лозунгами о раскованности эмоций, о бескрайних правах субъективного вйдения. Такой перенасыщенный противоположными моментами раствор содержал в себе самые разные тенденции. В начале своей футуристической карьеры композитор Прателла призывал: «удерживаться на дистанции от коммерческих и академических кругов», «отказываться от участия в любых конкурсах», проводимых в традиционной манере традиционными музыкальными учреждениями 47, а в годы муссолиниевского режима тот же Прателла директорствует в лицее Дж. Верди Равенне; противник оперы и вокальной музыки (музыки «слишком человеческой») пишет оперетты (!), песни, музыку к кинофильмам. И.никаких манифестов: вполне академичные работы по истории итальянской песни (напомним о прежних «запретах», в частности неаполитанской песни).
Краткая жизнь «слова» футуристов-музыкантов была продолжена позднейшим «авангардом» — ив новом «слове», и на «деле». Но и эта новая жизнь «протоавангарда», превратившегося в «авангард», не была особенно длинной. Теперь, в 80-х годах, в эпоху неотрадиционализма, высказывание историка о том, что, «несмотря на эйфорические прокламации футуристов, эпоха музыки будущего, порвавшей с традицией, все не начиналась» 48, хочется отнести не только к футуризму, но и к последующему авангардистскому движению, прообразом которого футуризм во многом явился. Эпоха «музыки будущего», обрисованная в шумных заявлениях авангардистов 10-х или 20-х годов, «все не начинается», а действительно существует творчество, реально продолжающее и обновляющее традиции прошлого. Творчество выдающихся советских и прогрессивных зарубежных композиторов, которое входит в золотой фонд современной культуры.
Торжество разума над иррациональными, расистскими притязаниями фашистов, достигнутое благодаря великому подвигу советского народа, ценой величайших человеческих жертв, вызвало в 50-х годах в буржуазном мире волну умонастроений, связанных с оптимистической верой в возможность прогресса, в универсальность человеческого духа. Тогда же началось и интенсивное научно-техническое развитие, которое впоследствии получило название научно-технической революции. Этот сдвиг в сфере материального производства стал импульсом для многих буржуазных идеологов, целенаправленно разрабатывавших в конце 40-х и в 50-х годах сциентистские доктрины.
Для сциентизма характерно понимание мировоззрения лишь как вывода из частных эмпирических исследований. По определению В. Г. Федотовой, «сциентизм выступает как упрощенный и более "плоский" рационализм, верящий не в универсальную способность разума, а в универсальность определенной его способности, в выработанный естественными науками инструментарий получения знания» 49. Все исторические развитие получает схематическую трактовку: от господства религиозных воззрений через метафизику к науке 50, притом к пауке естественной, которая якобы способна выполнять и роль религии, и роль «метафизики».
Так зарождаются технократические концепции общественного развития (Р. Арон, В. Штегмюллер, позднее Д. Белл, Дж. Гэлбрейт и другие). Пафос этих концепций состоял в обосновании возможности бескризисного развития капитализма, ибо «техника все сделает сама» 51. Одновременно полностью отрицалась идеология, роль которой стали выполнять «техника и наука».
В музыкальном развитии Европы, особенно Западной Германии, Италии и некоторых других стран, после крушения фашизма создалась ситуация, благоприятствовавшая проникновению в композиторское сознание охарактеризованной выше идейной моды. Реакцией же на общий примитивизм искусства, насаждавшегося национал-социалистами, и на категорический запрет в фашистских государствах практики нововенской школы стало тяготение молодых композиторов к искусству «сложному» (причем именно в аспекте технических средств), прежде всего к наследию нововенской школы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: