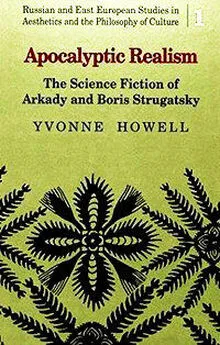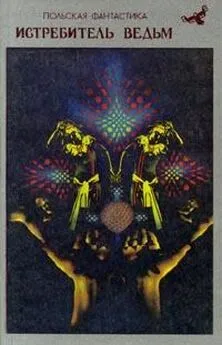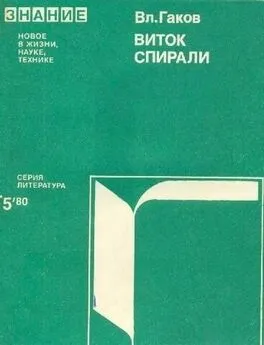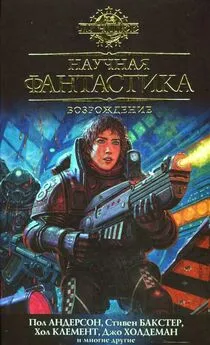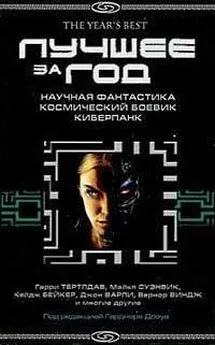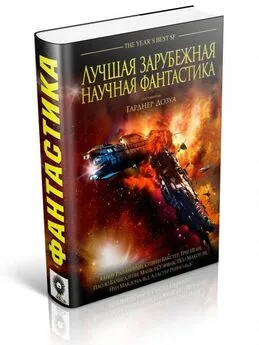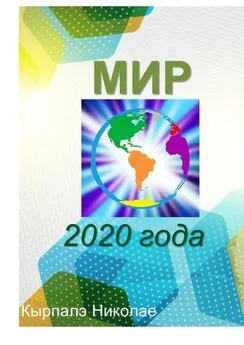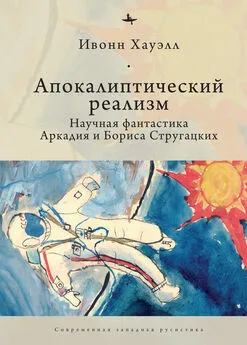Ивонна Хауэлл - Апокалиптический реализм: Научная фантастика А. и Б. Стругацких
- Название:Апокалиптический реализм: Научная фантастика А. и Б. Стругацких
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2009
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ивонна Хауэлл - Апокалиптический реализм: Научная фантастика А. и Б. Стругацких краткое содержание
Апокалиптический реализм: Научная фантастика А. и Б. Стругацких - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уникальность стиля Стругацких в том, что он стирает различие между современными реалистическими и апокалиптическими декорациями. С одной стороны, главные герои, похоже, существуют вне исторического времени и пространства: в дантовском подтексте романа «Град обреченный», в гностической рукописи романа «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», в литературных подтекстах (Акутагава, Булгаков) повести «Хромая судьба». Хотя они ощутимы и в Советском Союзе последних десятилетий ХХ века. Декорации колеблются между фантастическим и реалистическим слоями текста и принадлежат к обоим одновременно.
В конце романа «Хромая судьба» полуавтобиографический рассказчик ведет воображаемый диалог со своей музой — автором «Мастера и Маргариты». Диалог поучителен, ибо на голос духа Булгакова накладывается опыт Сорокина. Поиск Сорокиным (и авторами) значения и ценности был переадресован экзистенциалистской реакцией на апокалиптические события середины ХХ века. Было разъедание веры возможностью трансцендентного — либо через искусство, либо через религиозное спасение. Булгаков, воскресающий в перевозбужденном уме Сорокина, говорит от лица поколения, которое дожило до того, что наихудшие опасения Булгакова более чем сбылись. Наиболее знаменитое утверждение Булгакова — о бессмертии искусства — переворачивается в романе «Хромая судьба»:
«Мертвые умирают навсегда, Феликс Александрович. Это так же верно, как и то, что рукописи сгорают дотла. Сколько бы он ни утверждал обратное.»
(С.278)Судьба Мастера (Художника) так же пересматривается. Если булгаковский Мастер заслужил мир (хотя и не свет) — как результат вмешательства Маргариты в его участь, Сорокин не заслужил ничего.
«… Людям свойственно ожидать награды за труды свои и за муки, и в общем-то это справедливо, но есть исключения: не бывает и не может быть награды за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. Поэтому, Феликс Александрович, не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света.»
(С.278)Возможно, что Феликс Александрович Сорокин вкладывает слова своего собственного сознания в уста воскресшего Михаила Афанасьевича (Булгакова), появляющегося в конце романа «Хромая судьба». В конце концов, Сорокин характеризует себя как преуспевающего писателя военно-патриотической темы в стиле социалистического реализма, наслаждающегося теми материальными выгодами, которые ему приносит принадлежность к элите.
Тем не менее, это не предотвратило написание книги, отражающей правду. Он относится к своей книге, «Гадкие лебеди», как к «новому Апокалипсису». В моменты страха и безнадежности он собирается сжечь свою книгу об истине, но не делает этого, поскольку «Да и как бы я ее стал жечь — при паровом-то отоплении. […] исчезли по городам печки». Эта слабая шутка повторяет основную предпосылку — о неизмеримой связи между советскими городскими условиями и проявлениями глобальной духовной битвы — битвы, которая ведется в Городах-преддверьях русской литературы.
Глава 4
Пришельцы нашего времени
Горбачев: У нас может быть расхожие мировоззрения, но все-таки нас объединяет одно отечество, одно прошлое и одно будущее.
Отец Иннокентий: Конечно, если смотреть с исторической точки зрения… но все дело в том, что мы, христиане, смотрим за пределы истории, и тут-то наши будущие могут очень отличаться.
Диалог, 1989 годВ залитом дождем городе романа «Гадкие лебеди» появилась раса генетических мутантов, и, подобно Пестрому Флейтисту, эта раса мутантов угрожает увести за собой городских детей, не могущих противостоять их обещанию лучшего мира. Снаружи мутанты, известные как «мокрецы», выглядят физически отталкивающими и больными. Они мокрые, мрачные, лысые, с желтыми кругами вокруг глаз (отсюда их второе прозвище — «очкарики»). Они поселены в «лепрозории» вне города. Впрочем, у них своя, высоко развитая интеллектуальная культура, и Виктор Банев упоминает философа мокрецов, Зурзмансора, наряду со Шпенглером, Фроммом, Гегелем и Ницше.
Мокрецы в романе «Гадкие лебеди» представляют тот же самый тип суперцивилизации, что и Странники (в цикле истории будущего) или людены (в романе «Волны гасят ветер»). Они отделываются от своих менее развитых человеческих братьев, как человек отделывается от значительной дискуссии с маленькими детьми, но они не отягощают себя разрушением или насилием. Они просто отбирают наиболее многообещающих человеческих особей, чтобы населить ими свой утопический мир (в этом романе городские дети отобраны для будущего человечества) и уводят их от дистопического настоящего. Мокрецы феноменально начитанны (похоже, что книги нужнее им, чем пища) и они асексуальны. В отличие от ранних утопических героев Стругацких, у них нет гуманистических иллюзий и моральных сомнений в своем праве выбирать и «спасать».
Стоит заметить, что переход от ранней научной фантастики Стругацких к тому, что можно назвать «зрелой прозой», отражает фундаментальное изменение в настроении социума. Он отражает переход гуманизма и культурного релятивизма от авангарда до слабой защиты. Это та точка, с которой начинается подтекстовый диалог с Федоровым.
Влияние идей философа Николая Федорова (1828–1903) на российскую/советскую литературу и науку долго недооценивалось. Наиболее явно от изучения влияния Федорова отпугивало то, что его имя и работы были табу на протяжении более чем тридцати лет, последовавших за появлением власти у Сталина.
По Янгу, первое упоминание Федорова в советской печати после долгого молчания было в 1964 году, в публикации мемуаров В.Шкловского. [60] Young J. Nikolai Fedorov: An Introduction. - Nordland Publishing Company (Mass.), 1979
В них Шкловский восстановил тот факт, что Константин Циолковский, гений ранней советской космической технологии, был учеником ни кого иного как Николая Федорова. [61] Константин Циолковский (1957–1935) заложил теоретический и практический фундамент для современной космической технологии Советского Союза. Отличное краткое исследование отношений между Циолковским и Федоровым можно найти в: Holquist M. The Philosophical Bases of Soviet Space Exploration // The Key Reporter. - Vol.51, № 2 (Wint.1985-86).
С этого времени постепенно растущее число исследований стало прослеживать влияние Федорова на российскую интеллектуальную жизнь — распространенное, но далеко заметное. Федорова полагали гением его современники Достоевский, Лев Толстой и Владимир Соловьев. Но последующие поколения нашли прямое приложение в искусстве и науке грандиозному синтезу религиозного идеализма и научного эмпиризма.
Для Федорова христианство имело несомненную притягательность на фоне апокалиптических предчувствий и диких милленаристских ожиданий рубежа веков. Далее, его видение конкретных достижимых с помощью науки шагов, которые надо предпринять в направлении утопической цели всемирного братства, оставалось соответствующим духу времени даже после революции. В начале 1920-х триумф марксизма все еще шел рука об руку с некоторым родом космического романтизма, который стремился распространить новый порядок за пределы государства, в космос. Так, с другой стороны, идеи Федорова проникли во многие модернистские течения российской литературы; с другой стороны, они обеспечили импульс для научных исследований и технологических экспериментов, которые привели к запуску в космос первого советского спутника.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: