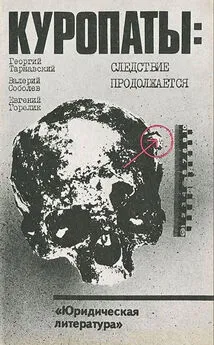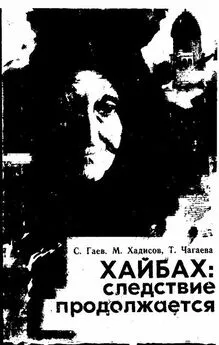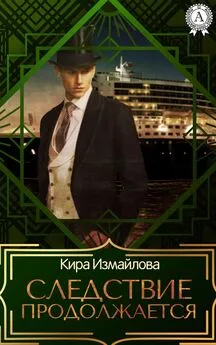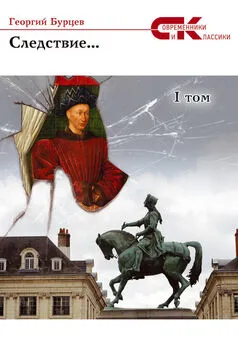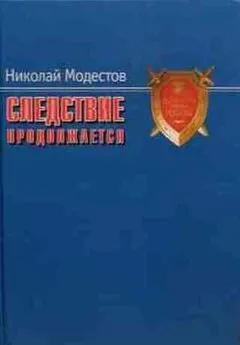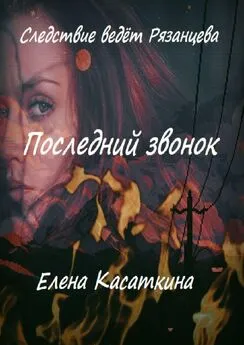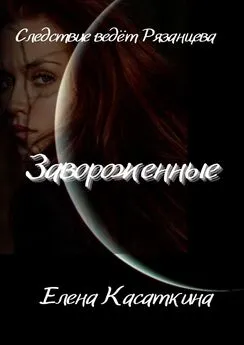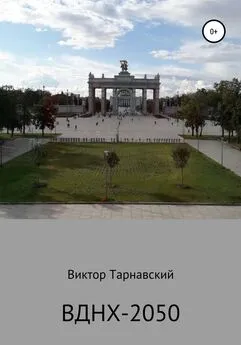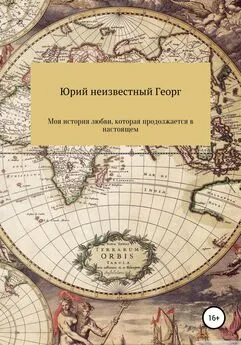Георгий Тарнавский - КУРОПАТЫ: СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
- Название:КУРОПАТЫ: СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Тарнавский - КУРОПАТЫ: СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ краткое содержание
В Ваших руках книга, которая вряд ли годится для легкого чтения. Не исключено, что ознакомление с ее печальными страницами потребует мучительной работы души и сердца. Тем, кто не готов к такой работе, кто устал от разоблачений и «белых пятен», советуем отложить книгу в сторону. Мы расскажем о следствии, о допросах и экспертизах, о нелегком поиске ответов на мучительные вопросы: «кого убили?» Вас ждет предельно точный, откровенный рассказ о горьких событиях нашей истории, забыть которые мы не вправе, если только не хотим, чтобы это когда-нибудь повторилось.
В книге использованы материалы из уголовного дела по расследованию Прокуратурой БССР массовых расстрелов советских граждан в 30-е годы под Минском.
КУРОПАТЫ: СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот и цитата авторитетная найдена, и вроде к месту пристроена. Только нет в ней желанного для автора указания, что этих жуликов и авантюристов непременно надо расстреливать. Тогда сегодняшним разоблачителям и авантюристам вовсе крыть было бы нечем. Тогда, как говорится, поднимай руки, прекращай всякие расследования и бегом неси тюльпаны на могилу Кобы.
Еще одно категоричное суждение. Бывший военнослужащий, член КПСС с 1939 года С. А. Бугорский из Симферополя пишет:
«…В последнее время столько запестрело всяких публикаций, что Сталин — сущий изверг, ничем другим не занимался в государстве, лишь ощипывал кур, прятался от охраны, да приказывал Ежову, а потом Берии беспощадно уничтожать советских людей. А органы НКВД — НКГБ — МГБ только и занимались тем, что постреливали…
Надо бы знать некоторым критикам, что после февральско-мартовского пленума 1939 года в стране соблюдалась строжайшая законность и с той поры органы государственной безопасности, как и сейчас, без прокуратуры, суда не арестовывали и тем более не расстреливали невинных людей».
Очень хотелось бы, уважаемый Степан Аникеевич, согласиться с вами. Но, увы, не можем — следствие располагает документами, беспристрастно подтверждающими, что и арестовывали без санкции прокурора, и расстреливали после выбитых пытками «признаний». И не только в тридцать девятом, но и позже — до самого начала войны и даже после ее завершения. Впрочем, об этом мы уже говорили выше.
Несколько особняком от всей почты стоит письмо И. Т. Шеховцова из Харькова. Он одним из первых откликнулся на сообщения в прессе о расследовании «Куропатского дела». Иван Тимофеевич обрел всесоюзную известность после участия в транслировавшемся по Центральному телевидению процессе, где он выступил в защиту Сталина, его чести и достоинства от посягательств писателя А. Адамовича и газеты «Советская культура».
В Прокуратуру БССР И. Т. Шеховцов написал:
«Как бывший следователь и прокурор понимаю, что дело возбуждено для установления истины предусмотренными законом средствами в связи с большим общественным значением фактов, вокруг которых людьми, менее всего заинтересованными в установлении исторической правды, развязана кампания, приобретающая, как это видно из публикации «Огонька», опасный характер.
…Это одно из проявлений развязанной нашими средствами информации кампании по дискредитации Сталина в отечественной истории, всего „сталинского периода“ и тех, кто пытается призвать к разуму, честности и порядочности распоясавшихся ниспровергателей. Я — один из тех, кто пытался это сделать, за что решением суда был признан „торжествующим защитником палачей“ (Известия, 1989, 23 сент.).
Сейчас еще рано предполагать возможные результаты расследования. Трудно представить, что дело будет направлено в суд, так как нет обвиняемого. Думаю, пожелание А. Адамовича судить наше государство останется всего лишь пожеланием. Возможно, „обвиняемым“ будет Сталин. Но тогда необходимо соблюдение всех предусмотренных законом процессуальных гарантий его права на защиту, начиная с „предъявления обвинения“ с участием защитника (в таком деле участие защитника в процессе необходимо именно с этой стадии) и кончая ознакомлением защитника с материалами законченного уголовного дела, а затем — участием его в судебном разбирательстве. Но до этого, как я понимаю, должен быть издан союзный законодательный акт, устанавливающий возможность расследования уголовного дела в отношении умерших…
Скорее всего по материалам дела будет организован „общественный суд“. Но и в этом случае следственные материалы должны быть такими же убедительными, как если бы они направлялись для рассмотрения в судебные органы. Должен быть назначен и общественный защитник, который имел бы право на заявление ходатайств, вплоть до возвращения дела для производства дополнительного расследования и его прекращения.
С учетом характера развязанной в Белоруссии, а теперь уже и в общесоюзном масштабе кампании вокруг обнаруженных в Куропатах захоронений этому защитнику придется очень трудно. И тем не менее, предлагаю свою кандидатуру. (Сейчас не осуждается предложение себя)…»
Это письмо вряд ли нуждается в пространном комментарии. Позиция его автора предельно обнажена, он не может допустить «дискредитации Сталина в отечественной истории» и готов не пощадить «живота своего» в отчаянной схватке с «распоясавшимися ниспровергателями». Но одно хотелось бы заметить уважаемому Ивану Тимофеевичу. Настойчиво требуя в будущем процессе над Сталиным, если такой состоится, соблюдения «всех предусмотренных законом гарантий», он почему-то напрочь забывает, что именно с повеления «великого и мудрого вождя» в середине тридцатых годов было отменено всякое право подсудимого на защиту, а «тройкам» и «двойкам» даровано безграничное право карать, отправлять в ссылку, в лагеря и в Куропаты. О том, как они использовали этот изуверский мандат, немало примеров дано в предыдущих разделах.
В одном из писем приведена пространная цитата из выступления штатного государственного обвинителя, Прокурора СССР Вышинского. С присущим ему напором и пафосом он воскликнул однажды:
«Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа.
А над нами, над нашей счастливой страной по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге во главе с нашим любимым вождем и учителем — великим Сталиным — вперед и вперед, к коммунизму!»
Не вступая в полемику с автором, скажем, что главный обвинитель страны все-таки ошибся. Нет у его жертв могил и нечему зарастать бурьяном и чертополохом.
Но пройдет совсем немного времени и в Куропатах, в других местах народной боли и горечи встанут обелиски, будут сооружены мемориалы и пантеоны. На мраморных плитах напишут имена павших, чтобы возвратить их из небытия в историю и в будущее. А суд над палачами — большими и маленькими — состоится, и будет вынесен приговор. Это сделает время. Оно — главный судья.
…Каждый день почта приносит новую пачку писем с лаконичным адресом на конвертах: «Минск, Прокуратура БССР, „Куропаты“». Из всех уголков страны люди обращаются к следствию с надеждой узнать что-нибудь о судьбе своих близких, осужденных когда-то «без права переписки», «на поселение…», «в ссылку». Хотя жизненные дороги тех, о ком они и через полвека помнят и желают получить весточку, проходили далеко от Белоруссии, они обращаются сюда, в Минск, потому что надежда не ведает границ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: