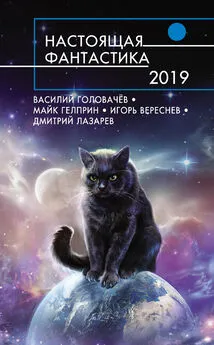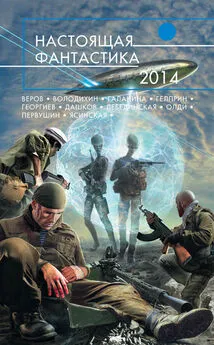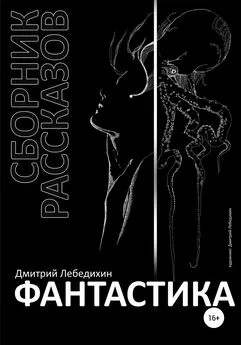Дмитрий Лукин - Настоящая фантастика – 2017 (сборник)
- Название:Настоящая фантастика – 2017 (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Э»
- Год:2017
- Город:М.
- ISBN:978-5-699-97996-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Лукин - Настоящая фантастика – 2017 (сборник) краткое содержание
Сгусток вещества и энергии замер в трехмерной пустоте, готовясь к транспространственному смещению. По многовековой традиции, сгусток назывался «космическим кораблем», а смещение – «межзвездным полетом». Странная традиция. Что общего с кораблем у хрупкой ажурной конструкции, похожей на опоясанную кружевами гирлянду мыльных пузырей?..
Кто не ошибается? Двести пятьдесят лет назад, когда только было подписано Соглашение о дружбе разумных планет, в космос отправились три корабля. Ни один из них не вернулся, и поэтому было принято решение не посылать четвертый. До тех пор, пока не пришло сообщение о планете, населенной очень близкими к нам существами…
Вадим Панов, Ярослав Веров, Дмитрий Казаков, Майк Гелприн и другие в традиционном ежегодном сборнике, выпущенном по итогам Международного фестиваля фантастики «Созвездие Аю-Даг-2016»!
Настоящая фантастика – 2017 (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тут все «обслуживают» нескольких героев, в свою очередь, служащих устами Ивана Антоновича. Из них главное лицо – врач Гирин. Эти персонажи, и Гирин прежде всех прочих, дают книге основную «плоть», наполняют ее главным смыслом. Они проделывают это двумя разными способами, служащими для достижения одной цели – популяризации ефремовских идей. Чаще всего Иван Антонович позволяет основным действующим лицам читать большие лекции, изредка прерываемые репликами оппонентов. Например, тот же Гирин в самом прямом смысле этих слов читает лекцию, по ходу которой представляет основным критерием красоты (в данном случае, красоты человеческого тела) биологическую целесообразность. Он же в других местах романа произносит монологи, например, о пользе психофизиологии, о язвах современной цивилизации и необходимости их уврачевания за счет ускоренного развития знаний о психике человека, или, скажем, о возможности проникнуть в «генетическую память» – «память поколений». Все эти монологи, по сути, те же лекции. Ефремов-ученый, как видно, не находил адекватной аудитории для публичных выступлений на подобные темы, и он сумел превратить роман в сборник непрочитанных лекций, скрепленных сюжетом, приключенческой составляющей и т. п. Если тема высказывания оказывалась слишком дискуссионной для подобного монологического выступления, Ефремов использовал очень древнюю, еще к античной мысли восходящую конструкцию – сократический диалог. Такой диалог обычно происходит между истинным мудрецом, человеком, владеющим правильным взглядом на вещи, и его менее искушенным собеседником. Этот самый собеседник может спорить и даже сердиться, но философ обречен на победу в диспуте, во всяком случае, именно в его словах читатель увидит истину. Иногда оппонентов может быть больше одного, но все же носителем правильной позиции всегда является единственная персона. И диалоги действующих лиц весьма часто превращаются у Ивана Антоновича в восхождение от неправильной позиции к позиции более правильной или же в коррекцию не совсем правильной платформы в абсолютно истинную. Очень хорошо видна культура академической полемики, знакомая Ефремову по его профессиональной деятельности и буквально затопившая страницы романа – вплоть до самых бытовых, казалось бы, эпизодов.
Ефремов-ученый, или, вернее, мыслитель в более широком понимании, на страницах романа победил Ефремова-писателя. От той спокойной и задушевной манеры автора-рассказчика, которая звучит в небольших произведениях Ивана Антоновича, опубликованных в 40-х годах, не осталось ничего. А для современного читателя несколько десятков страниц очередной «лекции» или очередного «сократического диалога» – непривычно тяжелое испытание.
В 90-х полыхнул «ефремовский ренессанс», а затем имя Ивана Антоновича и тексты его в подавляющем большинстве своем откочевали в область «культурной археологии». Иными словами, сделались частью мемориала советской культуре, утратив притягательность для массового читателя. Ефремов – классик нашей НФ, но его сейчас читают очень мало. Поздний Ефремов слишком тяжел в восприятии, слишком тягуч его язык…
Ефремов был «коммунаром». Он видел будущее России и всего мира в коммунизме. С его точки зрения, современная цивилизация, цивилизация больших городов, страдала чудовищными язвами и сильно исказила сущность человека, изначально здоровую. Другой роман Ивана Антоновича, «Час Быка», был посвящен ее слабостям и ее «искажающим факторам»; нет в этом романе ни пародии на капитализм, ни пародии на социализм; есть общий тупик мегаполисной культуры. Но если из «капиталистической модели» Ефремов не видел выхода в будущее, к исправлению, то модель социалистическая давала ему самые добрые надежды. Фантаст обернулся идеологом, притом весьма оригинальным, но труды его недолго оставались жизнеспособными.
«Лезвие бритвы» сообщает об этой части мировоззрения Ефремова совершенно однозначно. Словами одного из персонажей Иван Антович говорит о необходимости веры в социализм, поскольку «…Другого пути у человечества нет – общество должно быть устроено как следует. Разумеется, социализм без обмана, настоящий, а не национализм и не фашизм». Но Ефремов подходил к коммунистическому маршруту в жизни человечества с романтическим пафосом. За бетонными коробками советской действительности он видел прекрасную картину отдаленного будущего. С его точки зрения, мощную струю новых смыслов и жизненной энергии «реальному социализму» обеспечила бы прививка восточных духовных учений. В частности, тантризма, йоги. Ефремова устроил бы индуистско-марксистский путь развития, странный сплав коммунизма и восточной эзотерики.
Однако советская действительность умерла, не успев превратиться в самостоятельную цивилизацию. «Сценарий» будущего, милый сердцу Ефремова, сгинул вместе с нею. Разнообразные восточные учения хлынули в нашу страну мутным потоком на рассвете 90-х, был восприняты, главным образом, через поп-версии, весьма далекие от ефремовского сложного письма, насыщенного дискуссиями и своего рода острыми «проповедями»; а те, кто освоил восточные учения позднее, всерьез, уже в ашрамах и разного рода углубленных семинарах, не читал Ефремова за ненадобностью: тот хотел выплавить из коммунизма и эзотерики самостоятельную философию, но востребованной оказалась (до поры до времени) именно эзотерика, коммунизм же, что в сплаве, что без оного, уходил безвозвратно. А мощная прослойка советской техфизматинтеллигенции, составившей ядро восторженных поклонников Ивана Антоновича, изрядно уменьшилась в размере. И в наши дни «Лезвие бритвы» представляет собой монумент на могиле давних надежд и упований, памятник несбывшемуся сценарию.
Но уж во всяком случае Ефремов оказал огромное влияние на всю последующую русскую фантастику. Его имя многие в сообществе фантастов до сих пор произносят с трепетом.
Помимо текстов Ефремова, до наших дней дошло еще одно его наследие – «ефремовская школа». Много было споров вокруг того, кто был истинным последователем Ивана Антоновича, а кто «примазался» к его громкому имени. Из советского времени чаще всего называют рано умершего Вячеслава Назарова, а из нынешних авторов – здравствующего и активно публикующегося Дмитрия Федотова. Фирменный стиль школы – соединение твердой науки с размышлением о судьбах всемирного социума и с элементами все той же восточной эзотерики: слова «стихия», «энергия» и какое-нибудь «состояние самадхи» для истинного ефремовца – органика.
С 2004 года вручается литературная премия имени И.А. Ефремова, учрежденная международным Советом по фантастической и приключенческой литературе и Союзом писателей России. Ефремова помнят, хотя читают мало.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


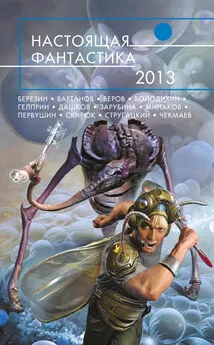
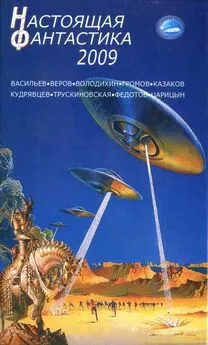

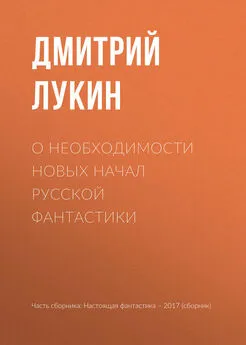

![Алекс Бор - Настоящая фантастика 2018 [антология]](/books/1062046/aleks-bor-nastoyachaya-fantastika-2018-antologiya.webp)