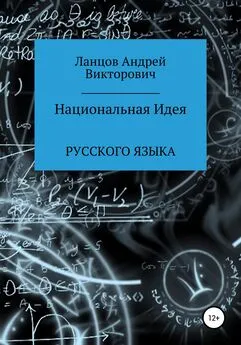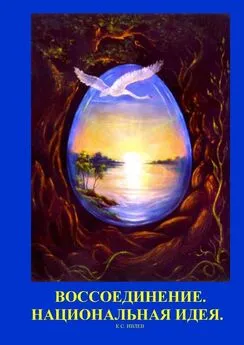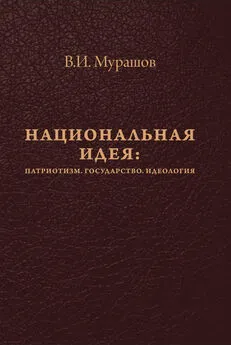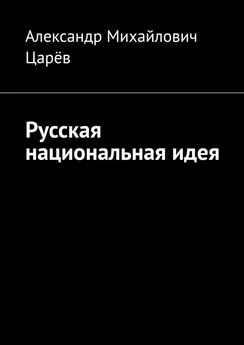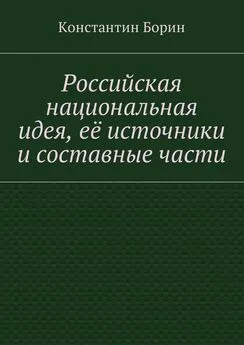Михаил Ремизов - Русские и государство. Национальная идея до и после «крымской весны»
- Название:Русские и государство. Национальная идея до и после «крымской весны»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 1 редакция
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-84578-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Ремизов - Русские и государство. Национальная идея до и после «крымской весны» краткое содержание
* Гражданская нация против этнической – чему отдать предпочтение?
* «Обратная колонизация»: вызов исламизма.
* Россия и Запад: трансформация миропорядка после присоединения Крыма.
* Иммиграционная политика: взять лучшее, не допустив худшего.
* Фундамент национального государства: «высокая культура» против мультикультурности.
Русские и государство. Национальная идея до и после «крымской весны» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иными словами, миф об общем происхождении может быть в той или иной степени истинным.
Но значение с точки зрения этнических связей имеет не его истинность, а только его действенность, за которую отвечают социокультурные, а не генетические механизмы.
Критерием этой действенности является устойчиво воспроизводимое представление о естественной связи поколений . Утверждение о том, что «наши предки», к примеру, «приняли христианство» или «дошли до Тихого океана», не может быть подтверждено генетической экспертизой или выписками из метрических книг. И главное, оно не нуждается в таких подтверждениях, поскольку в масштабе «большого общества», которое по определению не может основываться на непосредственных связях, интеграция людей и поколений происходит за счет символов коллективной идентичности. Подобно «тотемам» в примитивных формах религиозной жизни, именно культовые образцы, а не реальные люди выполняют условную роль «общего предка».
Поэтому этническое определение нации как «сообщества происхождения» не имеет ничего общего с биологическим редукционизмом. «Сообщество происхождения» – это не «сообщество ДНК» (как в истории, так и в быту генетические родственники могут не иметь друг к другу никакого отношения, не образовывать социальной связи), а сообщество наследования групповой идентичности, закрепленной в культуре.
Разумеется, многообразие культурных самоопределений невозможно свести к этничности. Но для их опознания как этнических важен факт наследования от поколения к поколению и способность производить устойчивое различение «мы» – «они». С учетом этих оговорок культуралистское понимание этничности можно считать базовым, в том числе и для оппозиции этнического и гражданского национализма.
От него отталкиваются как сторонники этой оппозиции – например Юрген Хабермас, когда «юридическому статусу, определяемому в терминах гражданских прав» он противопоставляет «членство в культурно определяемом сообществе» [63], – так и ее противники. Например, Бернард Як, когда он выражает «стандартный» взгляд на проблему: «Этническая идея нации, говорят нам, превозносит унаследованную культурную идентичность, примером чего служат Германия, Япония и большинство стран Восточной Европы. Гражданская идея нации, напротив, предполагает… чисто политическую идентичность участников в таких современных государствах, как Франция, Канада и Соединенные Штаты» [64].
Для целей дальнейшего анализа мы вполне можем принять, что дилемма этнической и гражданской нации составлена из двух ключевых оппозиций:
●культурной идентичности и политической;
●наследования идентичности и ее свободного выбора.
Рассмотрим их подробнее.
Принадлежность и выбор
Национализм создает напряжение в обществе – таково общее мнение. И это действительно так – он с необходимостью создает напряжение между «обществом» как описательной рамочной категорией и «обществом» как моральным сообществом, пространством «общего блага». Между «обществом» и «общностью», если использовать дихотомию Фердинанда Тённиса. В зазор между тем и другим могут попадать отдельные люди и категории населения. Но само это напряжение – не плод социальной агрессии, а следствие той формулы социальной интеграции, которая реализуется национализмом и благодаря которой «общество», опять же, в терминологии Тённиса, сохраняет или воспроизводит на новом уровне черты «общности» [65].
Для гражданского национализма (для иллюстрирующих его страновых моделей) эта формула не менее верна, чем для этнического. В обоих случаях общество выступает одновременно как данность и как задание .
«Гражданская нация» в качестве «данности» имеет население, совокупность носителей гражданских прав. В качестве «задания» – сообщество единомышленников, приверженных моральным, политическим, правовым принципам, на которых эти гражданские права основаны.
«Этническая нация» в качестве «данности» имеет совокупность носителей унаследованных культурных характеристик. В качестве «задания» – сообщество самосознания, основанное на освоении национальной культуры и соучастии в опыте совместной истории.
В одном случае в качестве технологии «переработки» общества выступает индоктринация , в другом – инкультурация . В практическом аспекте именно к этому сводится отличие «сообществ убеждения» от «сообществ происхождения», и это отличие вряд ли можно истолковать в пользу шаблонного представления о гражданской нации как «свободной» форме объединения.
Как справедливо отмечает Олег Неменский, «гражданский национализм», в тенденции, тоталитарен [66]. Американская, французская, а также советская модели национальной интеграции [67]в большей или меньшей степени иллюстрируют эту тенденцию, делая условием полноценной принадлежности к нации – приверженность определенной версии революционной метафизики.
С одной стороны, членство в «гражданской нации» определяется убеждениями, по крайней мере, фасадными убеждениями (приверженностью «общей совокупности политических практик и ценностей», как поясняют адепты канона [68]), с другой стороны, она охватывает все население государства (в глазах сторонников канона, в этом ее решающее преимущество перед «этнической»). Соответственно, убеждения оказываются далеко не частным делом. Они приписываются и предписываются гражданам с тем большей настойчивостью, что от этого зависит само существование нации.
На фоне этой систематической фальсификации убеждений – неизбежной, продиктованной граничными условиями модели, – постулировать какую-то особенную «добровольность» гражданской нации является отчаянным лицемерием.
Впрочем, дело не столько в особенных свойствах гражданской модели, сколько в общесоциологических соображениях. На определенном уровне оппозиция «добровольности» и «принудительности» заведомо несостоятельна. Через какие бы прилагательные ни определяла себя нация, все скрепляющие ее социальные институты скорее принудительны – принудительны, как само общество .
Наряду с этой оппозицией в мифе «свободного выбора» заключена и другая оппозиция – «сознательного участия» в сообществе и «примордиальной принадлежности» к нему. Гражданский национализм апеллирует к свободной воле человека, к его способности политического и морального суждения. Тогда как этнический национализм – «всего лишь» к факту рождения в определенной среде. Даже если индоктринация и инкультурация в равной мере «навязаны» индивиду, они действуют на него по-разному: индоктринация катализирует выбор в пользу универсальных принципов, преимущество которых (для прошедших индоктринацию) очевидно. Инкультурация фиксирует принадлежность .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: