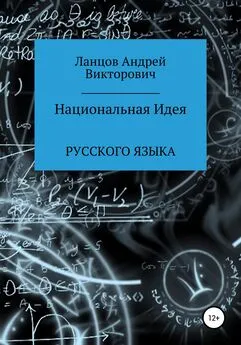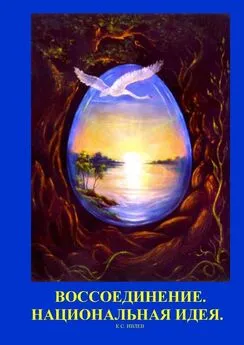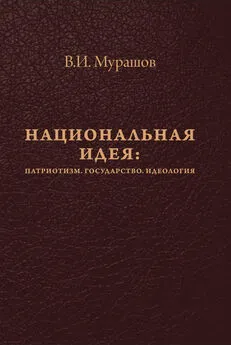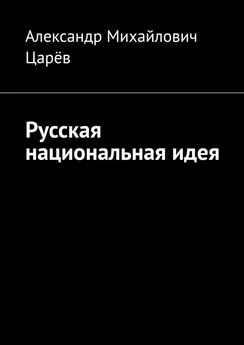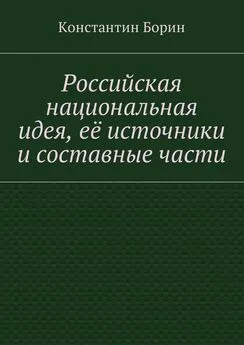Михаил Ремизов - Русские и государство. Национальная идея до и после «крымской весны»
- Название:Русские и государство. Национальная идея до и после «крымской весны»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 1 редакция
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-84578-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Ремизов - Русские и государство. Национальная идея до и после «крымской весны» краткое содержание
* Гражданская нация против этнической – чему отдать предпочтение?
* «Обратная колонизация»: вызов исламизма.
* Россия и Запад: трансформация миропорядка после присоединения Крыма.
* Иммиграционная политика: взять лучшее, не допустив худшего.
* Фундамент национального государства: «высокая культура» против мультикультурности.
Русские и государство. Национальная идея до и после «крымской весны» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако и эта оппозиция не выдерживает критики. В ответ на представление о том, что в основе гражданских наций лежит не заведомо предписанная принадлежность , а выбор в пользу «корпуса моральных и политических принципов», Бернард Як предлагает вообразить фигуру «американского политика, спокойно меняющего политическую идентичность просто потому, что ему больше нравятся французские или канадские политические принципы». Подобная ситуация явно противоречит политической этике, которая принята в мире наций, притом что в донациональном мире, например античном, как отмечает Як, она куда более уместна.
Иными словами, даже при преимущественно политическом характере интеграции национальная идентичность представляет собой то, что Клиффорд Гирц именовал «примордиальной привязанностью» , т. е. такой привязанностью, которая «проистекает из «данностей» – или, точнее, социального бытия» [69]. Разумеется, для того, чтобы идентичность возникла, «данности» должны быть подтверждены на уровне самоопределения. Но последнее в равной степени верно для этнической идентичности, которая как таковая не может не быть актом сознания.
Таким образом, сознательное участие (в противовес бессознательной принадлежности ) явно не может служить признаком, отличающим «гражданскую» модель интеграции от «этнической». В обоих случаях необходимо «включение» самосознания, акт самоопределения человека по отношению к предписанной ему роли. И в обоих случаях «якорем» идентичности служит определенный род социального бытия.
Возможно, и здесь ревностный сторонник канона продолжит настаивать, что, при определенном эмпирическом сходстве двух моделей интеграции, в них действуют принципиально разные регулятивные принципы, один из которых обращается к индивидуальному опыту каждого человека, другой – к совместному наследию. Именно так поступает Юрген Хабермас, когда постулирует: в первом случае (в случае гражданской модели интеграции) члены сообщества «должны воспринимать себя как союз свободных и равноправных индивидов на основе добровольного выбора», во втором случае (в «этническом варианте») они «считают, что их объединила некая унаследованная ими форма жизни и судьбоносный опыт общей истории» [70].
Хабермас, вероятно, отдает себе отчет в определенной контрфактичности идеализированной гражданской модели, поэтому говорит: « должны воспринимать» – что вроде бы позволяет уйти от социологических аргументов, подобных вышеприведенным.
Но и это кантианское решение здесь не вполне срабатывает. Регулятивная идея может противоречить реальному состоянию дел, но не самой себе.
Противопоставление выбора и наследования не действует на уровне самой идеи гражданской нации – потому что в ее логике предметом наследования оказывается сам свободный выбор или, если угодно, «выбор в пользу свободы» .
Американская война за независимость, Французская революция – осевые события, вокруг которых выстраиваются соответствующие гражданские нации. Это действительно моменты исторического выбора , причем выбора, разрывающего «путы преемственности» и по форме противоположного актам наследования. Но для последующих поколений единственный способ быть частью гражданской нации – наследовать выбор, совершенный предшествующими поколениями. Вся архитектоника «гражданского культа» постреволюционных (т. е. вроде бы порвавших с прежним наследием) наций говорит о том, что формирование политической идентичности на длинных исторических отрезках немыслимо вне представления о связи поколений, посредством которой выбор, совершенный в XVIII веке незнакомыми для сегодняшних французов и американцев людьми, становится значимым и обязывающим для них, становится их собственным.
Революция не могла бы стать осевым временем национальной истории, генератором идентичности (а это именно то, что делает с «революцией» совершившая ее «гражданская нация»), не став особого рода наследием, не будучи укоренена в подчас безотчетном представлении о естественной связи поколений и о создаваемом этой связью надиндивидуальном сообществе. Опыт стран, с которых писался канон гражданского национализма, это отчетливо подтверждает.
Соответственно, попутно с оппозицией «наследования» и «выбора» еще одну дежурную оппозицию – между «индивидуализмом» гражданских наций и «коллективизмом» этнических – мы также вправе дезавуировать.
Иными словами, гражданская концепция нации в не меньшей степени, чем этническая, содержит представление об общей судьбе , о «судьбоносном опыте общей истории», как выразился Хабермас. Таков, очевидно, сам жанр, в котором, пользуясь выражением Андерсона, воображаются нации [71].
На чем, в таком случае, основано устойчивое противопоставление между выбором и наследованием? На мой взгляд – на одном из предрассудков Просвещения, склонного абсолютизировать дистанцию между «разумом» и «традицией», т. е. между, с одной стороны, свободным и рациональным и, с другой – бессознательным и автоматическим воспроизводством социальных институтов. Против этой абсолютизации предостерегал Гадамер, рассуждая о том, что «безусловной противоположности между традицией и разумом не существует… В действительности традиция всегда является точкой пересечения свободы и истории как таковых. Даже самая подлинная и прочная традиция формируется не просто естественным путем, благодаря способности к самосохранению того, что имеется в наличии, но требует согласия, принятия, заботы… Такое сохранение есть акт разума, отличающийся, правда, своей незаметностью» [72].
Тема пересечения свободы и истории напоминает ренановское определение нации как постоянного плебисцита по поводу совместного прошлого и совместного будущего. Это определение обычно приводят как аргумент в пользу «волюнтаристской» («западной») концепции нации, в противовес «органической» («восточной»). Однако, если посмотреть на него сквозь призму замечания Гадамера, оно скорее свидетельствует в пользу искусственности этой оппозиции ( свободного выбора и совместного наследия ). Ведь при внимательном рассмотрении сама традиция (система отношений по поводу совместного наследия) предстает постоянным плебисцитом, пусть и «отличающимся своей незаметностью».
Культура и политика
По мнению Брубейкера, дихотомия гражданского и этнического национализма неизбежно спотыкается о «культуру».
С одной стороны, если «акцент на общей культуре, без всякого выраженного акцента на общем происхождении» считать атрибутом «гражданского национализма», то эта категория окажется «слишком разнородной, чтобы быть полезной», а противоположная сторона оппозиции – «этнический национализм», сведенный к вопросам происхождения и «генетики», – искусственно зауженной и «малонаселенной».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: