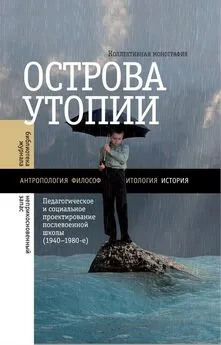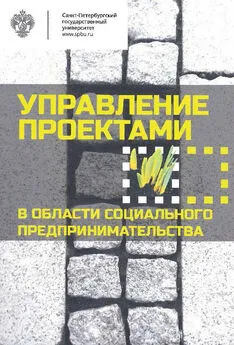Коллектив авторов - Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е)
- Название:Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0394-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е) краткое содержание
Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Другие участники конференции вновь актуализировали мысль о том, что врачи и педагоги вместе должны заниматься лечением «дефективных» и «трудных» детей. Так, например, Сухарева отметила, что «69,5 % детей с нервно-психическими отклонениями должны быть направлены в учреждения педагогического или лечебно-педагогического характера, находящиеся в ведении Министерства просвещения», а остальные 30 % должны быть помещены в психоневрологические учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения 292. Характерно, что, хотя в выступениях и акцентировалась необходимость сотрудничества различных учреждений в оказании помощи детям с девиантным поведением, ни один участник конференции не упомянул Министерство внутренних дел и КГБ как участников в работе с проблемными детьми и подростками 293.
Военные и послевоенные годы создали условия для оформления детской психиатрии не только как научной дисциплины с реабилитационными возможностями, но также как основы для психоневрологической помощи детям с поведенческими отклонениями. Детская психиатрия медикализировала таких детей, для того чтобы обеспечить их излечение, перевоспитание и социальную реинтеграцию. Как отметил Мэтью Смит, «появляющиеся новые типы психиатрических заболеваний часто отражают более широкие общественные заботы и перемены» 294. В Советском Союзе в 1940 – 1950-е годы медикализация детской поведенческой аномальности как поддающегося измерению психического заболевания стала ответом научного сообщества на послевоенный социальный кризис и кризис системы здравоохранения. Эта медикализация способствовала распространению дискурса специалистов, в котором представление об исходящей от «проблемных» детей криминальной опасности заменялось понятием травмы, что способствовало постепенному возрождению гуманных воспитательных подходов.
В 1956 году в колониях МВД была проведена реформа. При ее разработке, в соответствии с требованиями Хрущева, снова был поставлен акцент на перевоспитании малолетних правонарушителей, а не на их наказании. Впрочем, историки показывают, что эта реформа на практике была реализована крайне противоречиво 295. Дополнительные шаги по возрождению педагогических подходов к девиантному поведению детей были осуществлены в 1961 году, когда были восстановлены отмененные в середине 1930-х комиссии по делам несовершеннолетних, и в 1964 году, когда часть детских колоний MВД была преобразована в специальные школы и профессионально-технические училища и передана под контроль Министерства просвещения 296.
В то время, когда происходили эти перемены, вновь стала публиковаться педагогическая литература, поднимавшая проблему «трудных» детей. В 1958 году книга Л.С. Свалиной «Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплинированным ученикам» открыто поставила вопрос о праве девиантных детей на образование. Вскоре за этим последовали другие педагогические исследования этого вопроса – такие, как диссертации З.А. Астемирова «Исправление и перевоспитание осужденных в трудовых колониях» (1961) и Г.П. Медведева «Педагогическая запущенность детей и пути ее преодоления» (1964) 297. В конце 1950-х в Институте дефектологии «трудные» дети снова стали легитимным предметом исследования – сотрудники института изучали особенности их высшей нервной деятельности 298.
Эволюция советского подхода к детям, чье поведение отклонялось от принятых норм, представляет различные варианты модерного проекта нормализации и контроля над человеческим телом и разумом. В специфических условиях пореволюционного времени советские медики, подобно своим коллегам в Западной Европе, боролись за репрезентацию и лечение детской аномальности теми способами, которые включали как заботу, так и дисциплинирование маргинализированных и уязвимых Других. В 1917 – 1935 годах этот проект развивался в рамках представления о формировании новой советской личности под влиянием научно обоснованных и гуманных по своему пафосу средств. Однако начиная с середины 1930-х годов нормализации детского поведения пытались достигнуть в первую очередь с помощью изоляции, принудительного труда и наказаний. Только начало войны дало возможность определить неконформное поведение детей как «патологические реакции» на психическую травму и снова применять в таких случаях медико-педагогические, а не исключительно карательные меры. Идентификация строптивых детей как «психически больных» дала возможность переописать их как страдающих субъектов. Таким образом, они получили право на социальную помощь. В то же время психиатры не признавали за ними какую бы то ни было активную роль – кроме роли «вовлеченных» участников процесса обучения – и считали необходимым постоянное наблюдение за их жизнью. Дискурс травмы был позитивной альтернативой тюремному заключению и репрессиям. Он не только противостоял карательной социальной политике, но и противоречил официальной оптимистической идеологии, которая с трудом признавала наличие травмирующих переживаний и травмированных людей. Тем не менее дискурс травмы тоже создавал иерархию психического здоровья, усиливал центральное значение идеально здорового, абсолютно разумного и активно трудящегося гражданина и ставил ценность человеческой личности в зависимость от способности человека соответствовать этому образцу.
Авториз. пер. с англ. Т. Эйдельман
Илья Кукулин«Воспитание воли» в советской психологии и детская литература конца 1940-х – начала 1950-х годов
Эту главу можно было бы назвать «Шекспировская травести вырабатывает характер» или «Краткая, но поучительная баллада о том, как советский пропагандист Виталий Губарев нечаянно сделал из Карла Маркса Льюиса Кэрролла и что из этого вышло». Она – о том, как писатель и партийно-комсомольский функционер решил написать детскую сказку, разъясняющую для подростков новые педагогические установки конца 1940-х годов, но из-за противоречивости этих установок и императива занимательности создал произведение, подрывающее основы как эстетики соцреализма, так и советской педагогики. Это произведение – повесть «Королевство кривых зеркал». После выхода книги на ее странности, кажется, почти никто не обратил внимания, но со временем именно они способствовали сохранению ее популярности в самых разных историко-культурных ситуациях.
Как я надеюсь, предпринятое мной изучение частного случая позволяет увидеть внутреннюю противоречивость утопического идеала, изобретенного советской педагогикой конца 1940-х годов, – образа ребенка, способного воспитывать себя самого как сознательного советского гражданина, узнавая свои достоинства и недостатки, а потом исправляя их.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: