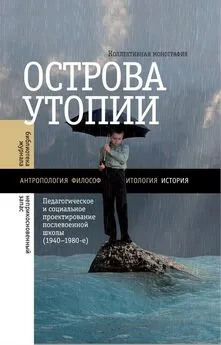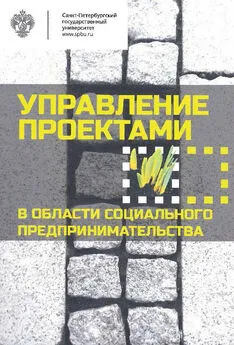Коллектив авторов - Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е)
- Название:Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0394-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е) краткое содержание
Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Один из самых нетривиальных выходов из положения придумала молодой тогда психолог Антонина Бардиан (впоследствии – автор книг и пособий по возрастной и педагогической психологии). Она использовала цитату из «Капитала» Маркса, где происхождение психологической рефлексии объяснено через первоначальный (и сохранившийся в немецком языке) смысл слова «рефлексия» – «отражение»: «Сопоставляя действия и поступки других людей с собственными, непосредственно реагируя на них, он [школьник] “открывает” в себе черты собственной личности. К. Маркс по этому поводу говорил: “Человек сначала смотрится, как в зеркало, только в другого человека”» 358.
Полностью цитата из Маркса – а именно примечание 18 в первом томе – в русском переводе выглядит так:
В некоторых отношениях человек напоминает товар. Так как он родится без зеркала в руках и не фихтеанским философом: «Я есмь я», то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода «человек» 359.
По-видимому, эта метафора Маркса – найденная непосредственно в «Капитале» или вычитанная из статьи Антонины Бардиан – и стала основой сюжета повести Владимира Губарева «Королевство кривых зеркал». Губарев в 1949 году ушел с поста заведующего кафедрой пионерской работы Центральной комсомольской школы, но продолжал писать и публиковать пропагандистские книги для молодежи и, скорее всего, следил за педагогической периодикой, тем более за популярным журналом «Семья и школа», и статью Бардиан, скорее всего, знал. «Капитал» – трудная для понимания книга, и Губарев мог не дочитать ее до конца, но читать почти наверняка пробовал и до примечания 18 мог добраться без особого труда – оно находится почти в самом начале книги. Однако «зеркальную» метафору Маркса Губарев сделал основой сюжета с помощью приема, придуманного Льюисом Кэрроллом.
Использование метафоры Маркса для изображения рефлексии позволяет объяснить странный факт: семантика зеркала и переворачивания слов в сочинении Губарева принципиально отличается от семантики подобных предметов и действий в предыдущих произведениях соцреализма, в том числе для детей – в них зеркало являет героям образы будущего, и перевернутые слова приходят оттуда же. В 1924 году в Харькове была издана повесть одного из основателей пионерской организации, бывшего главного редактора журнала «Петроградский скаут» Иннокентия Жукова (1875 – 1948) «Путешествие звена “Красной Звезды” в страну чудес» – о том, как группа советских школьников попадает в будущее и наблюдает там воплощение коммунистической мечты. В этом сочинении термины и географические названия, употребляемые людьми будущего, получены путем переворачивания обычных слов: город Афу – Уфа, напиток далокош – шоколад и т.п. 360Губарев как журналист, а затем и главный редактор «Пионерской правды» должен был быть знаком с Жуковым, который в 1930-е годы, уже уйдя на пенсию, регулярно обращался в ЦК ВЛКСМ с предложениями о реформе пионерской организации.
В фильме Г. Александрова «Цирк» (1936) герои смотрятся в зеркальную крышку рояля и видят свое будущее 361. Аналогично, в зеркале видит свою дальнейшую жизнь и героиня фильма «Светлый путь» Таня Морозова. У Губарева же зеркало обращает героиню не к будущему, а к ее собственным недостаткам, а потом помогает перейти в книгу, где Оля и Яло оказываются в мрачном Королевстве кривых зеркал.
Советская педагогика в конце 1940-х выдвигала два взаимнодополнительных императива. Она настаивала, что ребенка воспитывает коллектив (об этом много писал А.С. Макаренко, который к этому времени снова стал широко цитируемым автором, хотя к моменту своей смерти в 1939-м находился в состоянии тяжелого конфликта с педагогическим истеблишментом), и одновременно – что ребенок должен воспитывать себя сам. В СССР между двумя этими подходами существовало скрытое противоречие из-за того, что государство брало на себя полномочия тотального социального «конструктора», а личность растущего ребенка должна была в идеале слиться со своим социальным местом – это и была социализация по-советски 362. Понятно, что личности – объекту социального конструирования со стороны коллектива и государства – доверять воспитывать саму себя не стоит.
Губарев предложил в своем роде гениальный выход из этого противоречия: отрицательную сторону характера Оли – Яло – воспитывает коллектив, но состоящий… из одного человека – самой же Оли.
Этот неожиданный поворот, придуманный Губаревым и не имеющий более ранних прецедентов, позволяет объяснить особенность советской реализации мотива двойника в фантастических произведениях о роботах 1960-х годов. В литературе романтизма двойник, как правило, воплощает теневую сторону «оригинала» и наносит ему существенный ущерб или пытается убить, сжить со света, вытеснить с занимаемой социальной позиции. В неофициальной культуре советского времени такая трактовка мотива двойника тоже есть, хотя она обычно осложнена металитературной рефлексией – ср. пьесу Е. Шварца «Тень» (1940) или фантастический роман Александра Шарова «После перезаписи» (1966). Но есть и другая трактовка, при которой «оригинал» и «двойник» – дети или молодые люди, воспитывающие друг друга и научающиеся помогать друг другу в трудной ситуации 363. Наиболее известное произведение, где мотив романтического двойничества видоизменяется таким образом, – тетралогия Евгения Велтистова о школьнике Сереже Сыроежкине и его визуальном двойнике, гениальном роботе Электронике (публ. 1964 – 1986) и снятый на основе первых трех повестей цикла телевизионный мини-сериал «Приключения Электроника» (реж. Константин Бромберг, 1979) 364.
Зафиксировав идейные и сюжетные изобретения Губарева, в заключительных разделах этой главы я все-таки попытаюсь ответить на вопросы о том, почему все-таки Губарев вдруг откликнулся на пропагандистскую кампанию о «воспитании воли» и почему избрал для своей повести такой неожиданный сюжет.
Важнейшим вопросом в статьях о «воспитании воли и характера» было формулирование практических выходов из кризиса школы – ради этого кампания и проводилась. Предложенные в разных статьях варианты решения могут быть сведены к двум:
1) советские психологи без ссылок на источники описывали техники самовоспитания или методы их разработки, известные из не столь идеологизированных психологических работ или даже из религиозных традиций;
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: