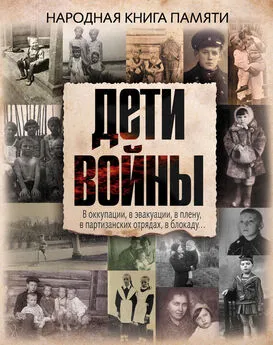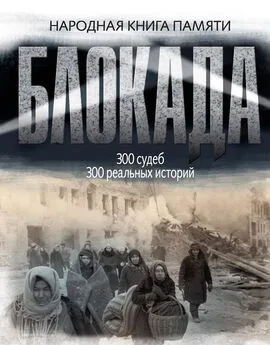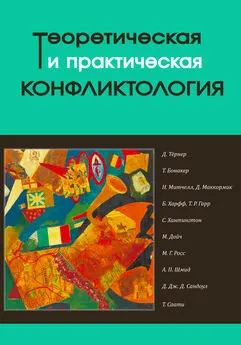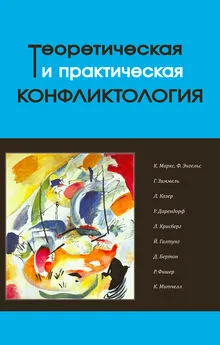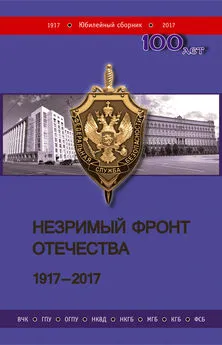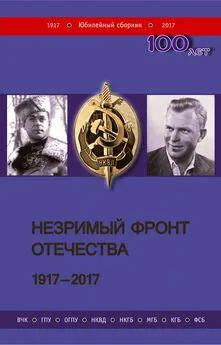Array Коллектив авторов - Дети войны. Народная книга памяти
- Название:Дети войны. Народная книга памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-088633-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Дети войны. Народная книга памяти краткое содержание
Писатель Андрей Кивинов
Дети войны. Народная книга памяти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что удивительно, были козы. Их не обкладывали никаким налогом, и население стало разводить коз. Коза давала 3–4 литра молока. Две-три козы заменяли корову. Так коз и прозвали «сталинскими коровами».
Так в 1947 году обзавелись и мы козой. Она была молодая, объягнилась и давала около трёх литров молока. Моему двоюродному брату Коле ещё не было и года. У тёти Нади было мало молока, поэтому коза спасла им жизнь.
Начался июнь месяц. Есть было нечего. Тётя Надя была дома. Она была в декретном отпуске до года с ребёнком. Дядя Ваня целыми днями в поле. Я занимался рыбалкой, целыми днями с удочкой. Дядя Ваня иногда топил ригу в гумне. Сушили лён для переработки. Однажды ночью, когда нужно было подкинуть дров в печку, он взял меня с собой. Гумно стояло на небольшом фундаменте из камней. Дядя Ваня сказал, чтобы я залез в подпол и пролез под полом гумна. В гумне был пол, на котором молотили рожь и другие посевные культуры. Я заметил в середине гумна под полом пирамидку. Когда я к ней подполз, это оказалось льняное семя. В полу оказалась небольшая дырка. Из доски выпал сучок. Всё это я переложил в мешок. Там оказались и другие семена.
Всё это я собрал, и мы принесли домой. Оказалось килограммов 20. Положили на печку, высушили, а потом вечерами, в ступке, перетолкли на муку. Так мы неожиданно разбогатели. К этому времени, в конце мая, мы перебрались жить в купленный дом. Жильё было приспособлено только в одной половине дома. А другая была ещё без пола и потолка. Хотя общая жилая площадь помещения не превышала 15 метров, это были хоромы по сравнению с баней. В бане остались жить Соня и Екимовна. Им дали земли 15 соток. Соня уже работала и получала зарплату деньгами. Там они прожили до 1960 года. Потом Соня купила домик, так там и прожила всю жизнь.
Прожить нам нужно было два голодных месяца: июнь и июль. Утром я брал корзину и шёл рвать траву, крапиву, лебеду, гусиные лапки, приносил домой, а тётя Надя затапливала печку и кипятила воду. Когда вода закипала, в эту воду мы складывали эту траву. Когда она обваривалась, мы её складывали в решето. Вода стекала, трава остывала и её пропускали через мясорубку. Потом тётя Надя делала лепёшки из этой массы, обваляв их в муке из семечек. Они пропитывались запахом масла и на сковородке подсушивались. Они нам заменяли хлеб. Если мне удавалось наловить рыбы, то жарили рыбу. В конце июня на трудодни дали дуранды – это жмых, который остается при приготовлении растительного масла из подсолнухов, из этой дуранды приспособились варить суп. Так мы сумели прожить июнь и июль 1947 года. Эти два месяца были самыми голодными в моей жизни. Первый раз я наелся досыта в августе 1948 года, а так всё время жил впроголодь.
Первый раз я наелся досыта в августе 1948 года, а так всё время жил впроголодь. Дядя Ваня в одном сапоге послал буханку хлеба, а в другом полкило комбижира. Тётя Надя отрезала четыре куска и намазала их жиром, это было в самое голодное время. Вкуснее этого хлеба я ничего не ел.
Я до сих пор помню его вкус.
В школу, в четвёртый класс, ходил рядом. В августе месяце уже ели картошку с нового урожая. И смололи немного ржи с моего огорода.
Осенью 1947 года прошла реформа денег. Первые деньги нового образца нам показала соседка-учительница, получив зарплату. В конце года мы купили корову, козу продали. Я имел наш старый огород, так как числился колхозником, и мы полностью его выкашивали. Налог с меня не брали, потому что я был несовершеннолетний. Потом учителю от колхоза был положен тоже участок земли. Она отдавала его нам. Там тоже было сено. Так что корма корове хватало на зиму, а нам вместе с учительницей молока.
Дядя Ваня попросил дядю Петю купить в Ленинграде кирзовые сапоги. Он выполнил его просьбу и прислал не по почте, а с кем-то, кто ехал из города в деревню. В одном сапоге он послал буханку хлеба, а в другом полкило комбижира. Тётя Надя отрезала четыре куска и намазала их жиром, это было в самое голодное время. Вкуснее этого хлеба я ничего не ел. Я до сих пор помню его вкус.
Так, пережив самый голодный год в своей жизни, мы встретили год 1948-й. В сорок восьмом году жизнь стала налаживаться. В колхозе стали выращивать лён. Его у нас умели обрабатывать. И вот, в зимние месяцы до весны наши женщины его трепали, чесали, и каждую субботу дядя Ваня укладывал недельную продукцию в сани и вёз за 30 км на льнозавод в Павы. Сдавал его высшим сортом. За лён хорошо платили (правда, не деньгами, а зерном пшеницы). Так в 48 году мы впервые попробовали пирогов из пшеничной муки.
В 48-м мы вплотную занялись домом. Всё лето с дядей Ваней строгали по вечерам доски на пол и потолок. Летом наняли плотника из Вошкова. Пришёл старичок и сделал нам полностью жилое помещение из нашего дома. Он настлал пол и потолок, насадил окна и вставил рамы, повесил дверь. Потом позвали дядю Яшу, это был мой двоюродный дед из деревни Горушка, он был большой мастер по печкам. Он сложил замечательную печь, которая простояла до 1970 года, хорошо грела, хотя была сделана из самодельного кирпича-сырца. На этой печи я спал до 1952 года.
В 48 году я закончил начальную школу, и мы, все будущие пятиклассники, поступили в Гридинскую школу. Там раньше стоял в парке большой барский дом. Это было одноэтажное здание. Только в центре была надстройка, и там были две комнаты. После революции и до войны там была больница. А после войны сделали школу-семилетку. Во время войны вся деревня и школа не пострадали. Деревня всё время была под властью партизан, она находилась в стороне от центральных дорог, в лесу, за рекой Ситня. Со всей округе туда ходили ученики. Нам нужно было идти четыре километра.
Всё бы ничего, но вот с обувью было очень плохо. Были только валенки. Поэтому мы всё время ходили босиком, как только сходил снег и до глубокой осени. Особенно плохо было в октябре, когда на траву ложился белый иней. До леса от деревни было километра полтора, его мы пробегали бегом, прибегали в лес, не чуя ног от холода. В лесу инея не было. Потом Ситню переходили вброд и приходили в школу. Это было в первый год. Потом каждый год в сентябре наши родители приходили в воскресенье в школу с топорами и пилами и сооружали что-то типа моста, и мы уже не переходили реку вброд. Весной, с ледоходом, этот мост уносило, и мы опять переходили вброд. Как только лёд переставал плыть по реке, мы натягивали верёвку, привязав её к деревьям, и утром раздевались догола, уложив вещи на голову, и, держась за верёвку, чтобы не снесло в глубину, переходили реку. Весь апрель и половину мая мы принимали эти ванны.
Придя в школу без пятнадцати девять, мы шли на физзарядку.
После занятий – шесть-семь уроков – мы приходили домой в пять часов вечера.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: