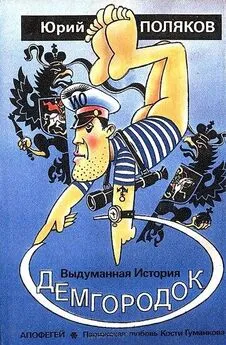Юрий Поляков - Государственная недостаточность. Сборник интервью
- Название:Государственная недостаточность. Сборник интервью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-087146-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Поляков - Государственная недостаточность. Сборник интервью краткое содержание
В настоящий том вошли интервью с 1986 по 2005 г.
Государственная недостаточность. Сборник интервью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я действительно очень плотно сотрудничаю с «ОЛМА-Пресс», но мои книги выходят и в других издательствах. Например, «Детская литература» выпускает в «Школьной библиотеке» мои повести, включенные в школьную программу, – «Сто дней до приказа» и «Работа над ошибками». Я веду переговоры с «Художественной литературой» о выпуске моего пятитомного собрания сочинений. А свой новый роман «Замыслил я побег…» я отдал издательству «Молодая гвардия», где почти двадцать лет назад вышла моя первая книжечка стихов. Но сначала роман в сокращении выйдет в журнале «Москва».
– Поговорим о вашем новом романе. Критика определяет ваш стиль как «гротескный реализм», который особенно ярко выразился в «Козленке в молоке» и «Небе падших». Новый роман продолжает ту же линию?
– И да, и нет. Повесть «Небо падших» – это своего рода спор с теми, кто рассказ о нашей нынешней подлой, криминализированной, полной кровавых курьезов жизни вывел за рамки литературы, превратив в чистую коммерцию, лишенное стиля чтиво. Мне же хотелось написать о мире новых русских, которые еще несколько лет назад были обычными советскими юношами, серьезную литературу. Но такую, чтобы она читалась с не меньшим, зато более глубоким, духовным интересом. И в течение четырех месяцев книга вышла тремя изданиями, была даже лидером продаж. Так что, мне кажется, спор я выиграл. Сергей Снежкин, поставивший в свое время нашумевший фильм «ЧП районного масштаба», хочет снять по «Небу падших» фильм. Ведем переговоры, ищем деньги.
А новый роман «Замыслил я побег…» написан в той же манере «гротескного реализма». В нем тоже работает принцип «преувеличения недолжного», в нем тоже комическое и трагическое завязаны в один прихотливый узел. Но это – семейный роман, если хотите – сага.
– Как правило, серьезный «семейный роман» – это страницы истории не только семьи, но и страны, в которой эта семья живет. Когда читаешь «Сагу о Форсайтах», понимаешь, почему рухнула Британская империя…
– Именно! Понять, почему рухнула Российская империя, можно, читая «Тихий Дон». И понять по-настоящему, почему рухнула советская империя, можно тоже только с помощью литературы.
– И в своем романе вы замахнулись объяснить…
– Да, я попытался написать такую книгу. Я подхватываю своих героев в середине 70-х и провожу их сквозь все неудобья времени, сквозь застой, перестройку, ельцинизм… Я писал этот роман три года. Кто-то улыбнется над моим замахом, но ведь писатель и должен ставить перед собой сверхзадачи. Даже если в процессе работы «сверх» отпадет, все равно его отблеск останется в тексте. А это уже немало! Судьба писателя, не ставящего перед собой сверхзадачи, жалка. Его удел – изнывать от самоповторений, заглядывать в глаза критикам, молить издателей об авансе и завязывать шнурки на ботинках заезжих грантодателей…
– А как, на ваш взгляд, обстоит дело со сверхзадачами у других писателей в нашей текущей литературе?
– Они появляются. На мой взгляд, отечественная литература возвращается на круги своя. Сегодня уже мало тщательно описывать фекальную сторону бытия или рифмованно издеваться над Павликом Морозовым, чтобы считаться соответственно прозаиком или поэтом. Приводы в милицию и прочие нелады с советскими законами тоже уже не гарантируют почетное место на российском Парнасе. Словесный эксперимент, оторванный от серьезной художественно-мировоззренческой цели, интересен ныне разве какому-нибудь провинциальному русисту из медвежьего зарубежного угла. И то в основном лишь потому, что он, русист, увлекался подобными словесными экспериментами, переходя с третьей ступени изучения русского языка на четвертую. Честно говоря, мне жаль этих людей, забежавших в великую русскую литературу с дохлыми крысами на веревочках. Они растеряны, они нервничают, объясняют критикам и читателям, какие у них замечательные крысы. Но критики уже хотят новых поводов для демонстрации своего университетского образования. А читатели хотят литературы.
И они ее получают. Да, одни суетились вокруг странных букеров-антибукеров и не менее странных пушкинских премий немецкого происхождения, а другие бегали, показывая всем щеку, потрепанную Бродским, или вихор, поглаженный Солженицыным. Но третьи тем временем сидели и писали, пытаясь понять наше безумное время. Именно их книги оказались сегодня востребованы. Они издаются – и они читаются.
– Вы так скупо охарактеризовали «третьих» – назовите кого-нибудь из них.
– Пожалуйста: Юрий Козлов, Тимур Зульфикаров, Татьяна Набатникова, Виктор Пелевин – кстати, этот писатель мне интересен.
– Помнится, вы когда-то назвали постмодернизм укропчиком, которым посыпано мясо. «А мясо – это реализм, – сказали вы, – и есть надо мясо, а не укропчик».
– Верно. Постмодернизм бывает разный. Я сам сейчас работаю над постмодернистской вещью – «Гипсовый трубач». Я давно хотел написать постмодернистский роман, но такой, чтобы читатель не засыпал на второй странице, чтобы он чувствовал себя Читателем, а не подопытным кроликом и не тонул в интертексте, как в выгребной дачной яме…
– Вы много пишете – заточились, наверное, «в обители трудов и чистых нег»…
– Да нет, кроме творчества – работы очень много. Я как консультант принимал участие в разработке серии современной прозы «Имена» в «ОЛМА-Пресс», вот буду редактировать толстый альманах «Новая русская словесность», который планирует выпускать это же издательство. В нем сможет печататься литературная молодежь, лишенная, к сожалению, того внимания, порой строгого, которым было окружено мое литературное поколение, – журнал «Юность», например, уничтожен группой энергичных пенсионеров.
Недавно состоялось значительное событие литературной жизни – «ОЛМА-Пресс» выпустило огромный том «Русская поэзия XX века». Это почти тысяча страниц, около 750 имен. И мне приятно сообщить, что с проектом этой антологии почти три года назад в издательство пришел именно я. Я очень рад, что этот мой проект осуществился в год Пушкина, которому мы и посвятили антологию.
– Конец века – время антологии, вон сколько их выходит. Чем же отличается ваша?
– По этой книге, надеюсь, будут судить о русской поэзии всего века, как мы судим о поэзии первой четверти XX столетия по знаменитой антологии Ежова и Шамурина.
– Да чем же она хороша? По какому принципу составляли – количественному или качественному?
– Любой поэт любого направления, заявивший о себе в отечественной поэзии, нашел в антологии свое место. Труд был тяжелый, и, вполне возможно, кто-то достойный пропущен. Сейчас мы как раз собираем замечания и рекомендации, и в переиздании все эти досадные промахи будут учтены.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



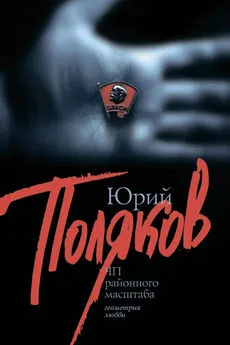
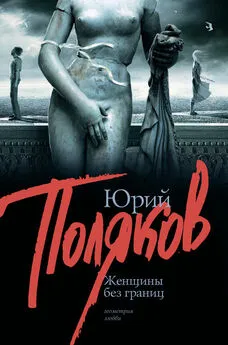
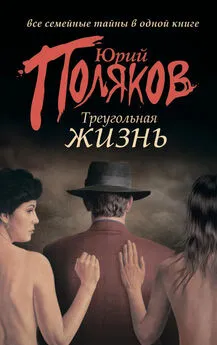
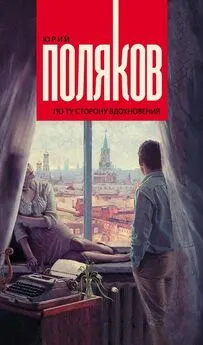
![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник litres]](/books/1074081/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-litres.webp)
![Юрий Поляков - Красный телефон [сборник]](/books/1074082/yurij-polyakov-krasnyj-telefon-sbornik.webp)