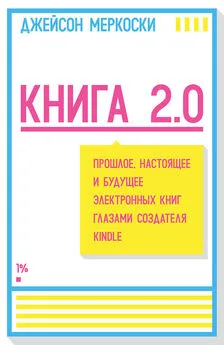Никита Кричевский - Экономика во лжи. Прошлое, настоящее и будущее российской экономики
- Название:Экономика во лжи. Прошлое, настоящее и будущее российской экономики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Эксмо»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-71943-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Никита Кричевский - Экономика во лжи. Прошлое, настоящее и будущее российской экономики краткое содержание
Экономика во лжи. Прошлое, настоящее и будущее российской экономики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Замените в высказывании Веблена «денежную силу» на синонимичное «богатство», и истоки ошибки проявятся сами собой. Замечу, что выдающийся ученый неспроста заострял внимание на материальной стороне потребительского поведения – в те времена социальный статус индивидуума, та самая «хорошая репутация», определялся несколько иными, нежели сейчас, критериями – прежде всего состоятельностью.
В наши дни более актуальной видится мысль Веблена о распространении вируса потребительства во всех социальных группах: «Любое демонстративное потребление, ставшее обычаем, не остается без внимания ни в каких слоях общества, даже самых обнищавших. От последних предметов этой статьи потребления отказываются разве что под давлением жесточайшей нужды. Люди будут выносить крайнюю нищету и неудобства, прежде чем расстанутся с последней претензией на денежную благопристойность, с последней безделушкой» [113].
Не о нас ли сегодняшних эти слова?
О нас, но не только о нас. Культ потребления шагает по планете – вот, к примеру, как по-философски изящно отзывается об этом уродливом общественном феномене американский экономист Джеффри Сакс: «Неумолчный бой барабанов консюмеризма, раздающийся во всех уголках жизни американцев, привел к крайней близорукости, пагубным потребительским привычкам и ослаблению способности к состраданию» [114].
Ему вторит другой известный ученый Роберт Франк: «Если другие, живущие в нашем городе, становятся богаче, стоимость жизни в нем растет, а реальный доход (доход с точки зрения его покупательной способности) экономически иммобильных граждан падает. Положение становится еще хуже, если иммобильные граждане начинают оценивать свою состоятельность в категориях собственности, которой они владеют: мой Chevrolet доставляет мне гораздо меньше удовольствия, если мой сосед «возносится» от Honda к Maserati » [115].
«Что плохого в потребительстве? – возразит читатель. – Люди стали лучше питаться, одеваться по последней моде, пользоваться новейшими средствами коммуникации. Вы призываете в каменный век возвращаться?»
Отнюдь. В потребительской гонке нет ничего предосудительного, вопрос, как всегда, в пропорциях. Однако даже приблизительно вычислить соотношение между демонстративной, насущной и общественной мотивацией нынче невозможно – благодаря беззубости государственной социальной политики (снова речь не только о России) альтернативы потребительскому оскотиниванию, к сожалению, нет. А значит, на мечтах о социальной справедливости, межпоколенческой солидарности или уменьшении бедности можно ставить крест.
В России потребительство нашло отражение даже в Конституции, где первичной целью «социального государства» названо «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [116]. За несколько десятилетий, прошедших после принятия Основного Закона, никто из авторов или Гарантов Конституции так и не объяснил, что понимать под «достойной жизнью»: личное обогащение, хорошее пищеварение или новое коммуникационное приспособление. Свободным от чего – морали, закона или государства – должен развиваться человек, также остается неизвестным.
Сегодня Россия живет под фальшивым лозунгом «Мы тоже можем себе это позволить». Ложь призыва, на мой взгляд, очевидна – это не что иное, как изъеденная молью ширма, тщетно прикрывающая лицемерие «неустанных усилий» власти по снижению социального расслоения. Хотя истинные причины усугубляющегося неравенства лежат на поверхности: сужающийся доступ к качественному образованию, деградация здравоохранения, исчезновение трудовой мобильности, невозможность честно заработать на крышу над головой, развенчание уверенности в обеспеченной старости.
Проблема не в том, что люди тратят все больше денег напоказ (в конце концов, это их личные средства), и даже не в том, что добровольно идут в долговое рабство (к получению кредитов никто не принуждает). Негативный эффект потребительства помимо углубления неравенства выражается, как модно сейчас говорить, в атомизации общества: росте низменного эгоизма, утрате чувства общественной сопричастности, готовности пожертвовать истинными приоритетами ради быстроизнашивающихся ценностей.
Кстати, об обществе, если рассматривать его как многогранное целое. Двуличность современного социума проявляется, в том числе, в ложной трактовке дихотомии равенства: равенство, по мнению «носителей культурного кода нации», должно присутствовать не только в политике, что вообще-то норма, но и в экономике, что невозможно по определению. Одно дело избирательные права или социальные возможности, и совсем другое – одинаковый уровень материального благополучия. Если первое призвано обеспечивать государство, то второе достигается в первую очередь самореализацией самого индивидуума.
Но государство – это не только институты. Государство – это его (наши) руководители, поведение которых со временем также претерпевает существенные изменения. В чем подсознательная логика царственных дефиле на новомодных байках, показных увлечений элитными горными лыжами или шокирующих амфорными постановками занятий дайвингом? Уж не в изменившихся ли потребительских предпочтениях первых лиц государства (об утрате приличествующей скромности и атрофии подобающего положению аскетизма умолчим)? И как сопоставить постановочный стриптиз высочайшей праздности с позабытым ныне новогодним полетом на истребителе в воюющую Чечню, ночным погружением на атомной подводной лодке в Северный Ледовитый океан или экстремальной экскурсией в лифтовой клетке в глубь угольной шахты?
Полозок властных предпочтений по шкале «аскетизм – праздность» застыл на второй отметке, хотя поначалу было ровно наоборот. Российское государство начала XXI в. с его расточительными прожектами и тщеславными руководителями стало главным проводником культа потребления в массах. Власть подошла к черте, когда мотивационная коррекция становится одним из главных условий выживания существующей политико-экономической модели.
Несколько слов о неумелых попытках ограничить следствие, не влияя на причину, – или, так сказать, вывести плесень, не затрагивая сырость. В следующей цитате, на сей раз принадлежащей перу апологета либерализма Людвига Мизеса, говорится о роскоши как апофеозе потребительского поведения: «Роскошь сегодня – это предмет первой необходимости завтра. Потребление предметов роскоши дает промышленности стимул открывать и создавать новые продукты. Это один из динамических факторов нашей экономики. Ему мы обязаны постоянными нововведениями, постепенно повышающими уровень жизни всех слоев населения» [117].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
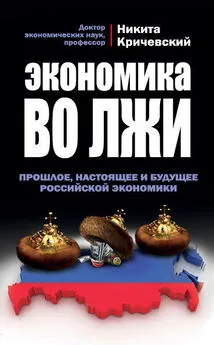



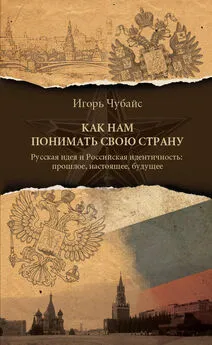

![Ник Пайенсон - Наблюдая за китами [Прошлое, настоящее и будущее загадочных гигантов]](/books/1067499/nik-pajenson-nablyudaya-za-kitami-proshloe-nastoyache.webp)
![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/1097979/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo.webp)