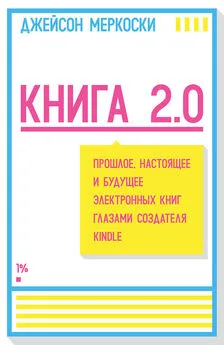Никита Кричевский - Экономика во лжи. Прошлое, настоящее и будущее российской экономики
- Название:Экономика во лжи. Прошлое, настоящее и будущее российской экономики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Эксмо»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-71943-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Никита Кричевский - Экономика во лжи. Прошлое, настоящее и будущее российской экономики краткое содержание
Экономика во лжи. Прошлое, настоящее и будущее российской экономики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уточню: в ставшем культовом «Либерализме» Мизес рассматривал роскошь как стимул к развитию производственных технологий на примере эволюции автомобилей Ford . Оставим в стороне произведения искусства, яхты или частные острова, которые вряд ли когда-нибудь станут таким же атрибутом повседневной жизни, как зубная щетка, – обратим внимание на то, что классик чрезвычайно размыл границу между предметами роскоши, потребительского культа, с одной стороны, и необходимыми аксессуарами – с другой. На вопрос, «что считать роскошью», нынче, думается, вряд ли дал бы точный ответ даже сам Мизес.
Отсюда главная причина многочисленных провалов попыток введения в России налога на роскошь. Должны ли облагаться дополнительным налогом эксклюзивная одежда, посещение элитных ресторанов, изготовленные в единственном экземпляре предметы религиозного культа – так же, как, например, дорогие машины, необъятные хоромы и пафосные меховые изделия?
Налог на роскошь, насаждаемый исключительно как средство приближения мнимого социального согласия, точнее, уменьшения градуса социального недовольства (трудно определить налоговую базу того, что идентифицировать крайне затруднительно), раскладывается просто. Это не что иное, как прогрессивный подоходный налог, дифференцированный налог на недвижимость и тонко настроенный налог для владельцев транспортных средств, в крайнем случае разовый сбор при покупке сверхдорогих вещей. Иначе мы до «мышей докопаемся» – чем, к примеру, пес с родословной лучше дворняги с ближайшего пустыря? Ах да, многочисленными наградами и участием в международных выставках.
Кредитное плацебо
Оголтелая экспансия потребительского кредитования – еще один, кроме бесхребетной социальной политики, фактор развития современного вещизма. Низкие доходы россиян как главное препятствие на пути достижения иллюзорной цели «не хуже, чем у других» нивелируются потребительскими кредитами, раздаваемыми буквально в подворотнях. Банкиры при полном попустительстве, а то и при поддержке властей подсадили нас на долговой наркотик, последствия общественной ломки от которого неизмеримо тяжелее традиционной наркозависимости. Причем цели участников процесса ясны: государство гонится за уменьшением социального расслоения, финансисты – за прибылью, заемщики – за статусом.
Оппоненты могут возразить: в тех же США показатели потребительского кредитования (ипотечные жилищные кредиты, автокредиты, иные потребительские ссуды) не в пример выше в сравнении с Россией. Это правда: в США к концу 2013 г. совокупный объем потребительских кредитов составлял порядка 102 % ВВП, тогда как в России – всего 27 % ВВП. Но в США львиная доля (более 81 %) кредитов, выданных физическим лицам, приходилась на ипотеку, тогда как в России – чуть больше четверти (27 %), включая не только ипотечные жилищные кредиты, но и любые кредиты под залог жилья. В отличие от американцев наш народ занимает преимущественно на приобретение продукции с быстро линяющими ценниками («Только паспорт – и желания сбудутся!»), причем уценка часто случается значительно раньше погашения ссуды.
К слову, в США старт потребительского бума пришелся на начало 80-х, во времена президентства Рональда Рейгана. Тогда потребительство, подогреваемое резко возросшей кредитной доступностью, стало наиболее простым и необременительным ответом политиков не только на обострившиеся экономические и финансовые проблемы, но также на растущее социальное расслоение. В те годы американская экономика задыхалась в тисках стагфляции (стагнации промышленности, высокой, по американским меркам, инфляции и большой безработицы). Борясь с последствиями «нефтяного шока» и стремясь обуздать инфляцию, глава ФРС США тех лет Пол Волкер методично повышал процентную ставку ФРС (в 1981 г. ставка ФРС поднялась до 21,5 % при среднем значении за предыдущие 14 лет в 7,6 %), что поставило на грань разорения многочисленные сберегательные и кредитные ассоциации, активы которых состояли в основном из долгосрочных ипотечных закладных с минимальной доходностью.
Для исправления положения власти США были вынуждены, в частности, либерализовать процесс кредитования: предоставить ФРС право менять резервные требования, отменить процентные «потолки» по кредитам, расширить спектр кредитных продуктов (Закон о дерегулировании депозитных учреждений и денежно-кредитном контроле 1980 г. и Закон Гарна – Сен-Жермена 1982 г.). К тому же в команде Рейгана быстро поняли, что развитие потребительского кредитования – очень хороший способ обманным путем уменьшить видимость социального расслоения.
После окончания эры Рейгана все последующие американские президенты не только не противились, но наоборот всячески поощряли разгул кредитной стихии, следствием чего стал бум ипотеки, логично приведший к глобальному кризису во второй половине нулевых [118]. Сегодня Америка уже не в силах отказаться от потребительской манеры социального поведения, тем более что к продолжению этой линии Штаты подталкивают их внешние кредиторы, готовые в угоду своим собственным, часто краткосрочным политическим и экономическим интересам (рост занятости, повышение уровня жизни, развитие экономики в целом) участвовать в поддержании американской потребительской пирамиды.
Но вернемся в Россию. Был ли в 2013 г. пузырь на российском рынке потребительского кредитования? Несомненно. Этот вывод подтверждается и Банком России: на середину 2013 г. средняя задолженность российского заемщика достигала 260 тыс. руб. В долгах перед банками «купались» 34 млн россиян (более 45 % экономически активного населения), причем, по данным Национального бюро кредитных историй, 450 тыс. заемщиков «повесили» на себя по пять и более кредитов и за год число таких должников выросло на 52 %. На кредитной игле целые регионы – в Башкирии, Кемеровской, Свердловской, Челябинской областях, в Хабаровском крае практически все экономически активное население живет в условиях неподъемной кредитной задолженности.
Взрыва пузыря на рынке потребительского кредитования и, как следствие, возникновения финансовой неустойчивости в банковском секторе в России, скорее всего, не произойдет. Эффективная процентная ставка по предоставленным кредитам столь высока, что позволит российским банкам относительно безболезненно пережить дефолты даже половины частных заемщиков. Чего не скажешь о психологической устойчивости должников-банкротов: депрессия, апатия, алкоголизм, наркомания – не самые страшные социальные последствия потребительского плена. Уход из жизни как крайняя мера решения долговых проблем – вот одна из наиболее серьезных социальных угроз, порожденная потребительской стихией. Однако купировав следствие (кредитную вакханалию), государство оставляет нетронутой причину (то самое социальное неравенство), которая рано или поздно даст о себе знать в новой, неведомой и, возможно, более серьезной по своим социальным последствиям форме.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
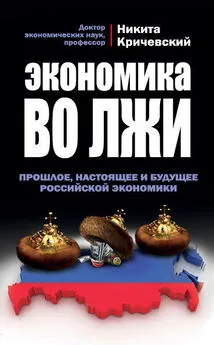



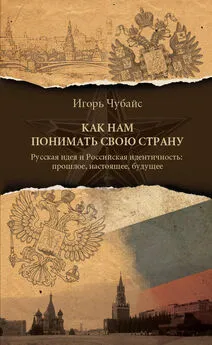

![Ник Пайенсон - Наблюдая за китами [Прошлое, настоящее и будущее загадочных гигантов]](/books/1067499/nik-pajenson-nablyudaya-za-kitami-proshloe-nastoyache.webp)
![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/1097979/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo.webp)