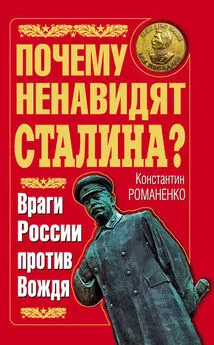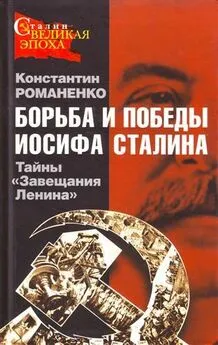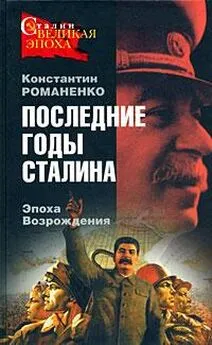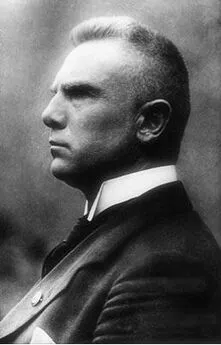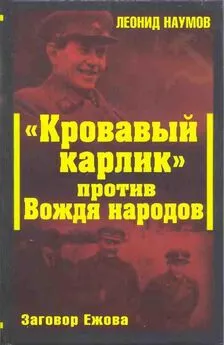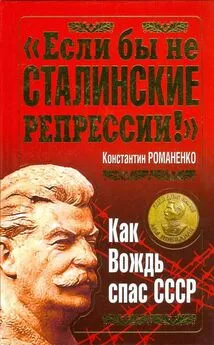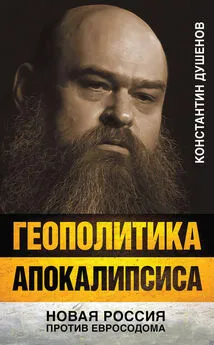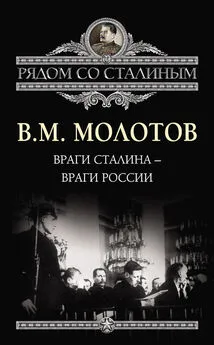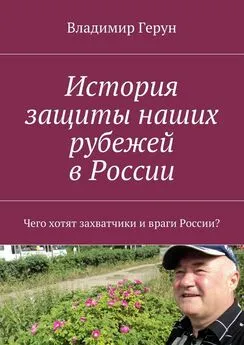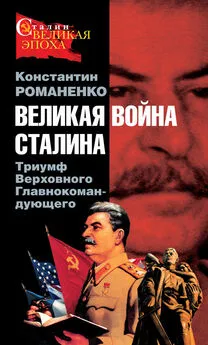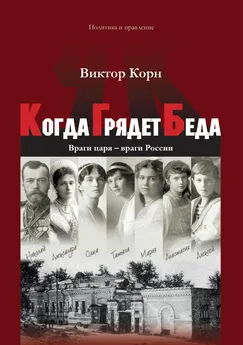Константин Романенко - Почему ненавидят Сталина? Враги России против Вождя
- Название:Почему ненавидят Сталина? Враги России против Вождя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Яуза»
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978-5-9955-0217-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Романенко - Почему ненавидят Сталина? Враги России против Вождя краткое содержание
Эта книга неопровержимо доказывает: Вождя ненавидят вовсе не за его мнимые «преступления», а за неоценимые заслуги перед Отечеством, не за мифические «провалы» и «грехи» – а за победы и свершения! За то, что «приняв Россию с сохой, он оставил ее с атомной бомбой». За то, что спас страну от «пятой колонны» и сделал Сверхдержавой, открыто бросив вызов мировой закулисе. За то, что в своей политике опирался на коренные народы, а не на «малый народ». За то, что под его руководством СССР стяжал бессмертную славу, победив в Великой Отечественной войне. За то, что его великая эпоха стала для нашей Родины эпохой Возрождения. За то, что лишь благодаря грандиозному сталинскому наследию Россия все еще жива до сих пор!
Почему ненавидят Сталина? Враги России против Вождя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Летом 1934 г. я был у Радека на квартире, причем Радек сообщил мне о внешнеполитических установках Троцкого. Радек говорил, что Троцкий, форсируя террор, все же считает основным шансом для прихода к власти блока поражение СССР в войне с Германией и Японией, и в связи с этим выдвигает идею сговора с Германией и Японией за счет терр[ит]ориальных уступок (немцам – Украину, японцам – Дальний Восток). Я не возражал против идеи сговора с Германией и Японией, но не был согласен с Троцким в вопросе размеров и характера уступок.
Я говорил, что в крайнем случае могла бы идти речь о концессиях или об уступках в торговых договорах, но что не может быть речи о территориальных уступках. Я утверждал, что скоропалительность Троцкого может привести к полной компрометации его организации, а также и всех троцкистских союзников, в том числе и правых, т. к. он не понимает гигантски возросшего массового патриотизма народов СССР.
Не помню точно в каком м[еся]це 1934 г. я зашел к Радеку на квартиру, чтобы прочитать ему написанную мною статью. Там я неожиданно застал человека, о котором Радек сказал, что это Мрачковский. Мрачковский, зная о моей роли в блоке, с места в карьер поставил вопрос о терроре, стал допытываться, что делается в этом отношении у правых, но я уклонился от этого разговора в его конкретной части, заявив ему, что он знает о т. н. рютинской платформе и, следовательно, об общих установках правых… Н.И. БУХАРИН» [57].
Повторим, что это признание, выношенное Бухариным в следственной камере, появится только 2 июня 1937 года, а уже в январе население страны и людей, наблюдавших за событиями в СССР за рубежом, потрясла другая сенсация.
Глава 11
Дело о «ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ»
Бухарин и его сторонники были не одиноки в своем страстном стремлении «убрать Сталина». 28 января 1937 года, когда в Москве начался процесс по делу «параллельного антисоветского троцкистского центра», на следующий день ЦИК СССР перевел генерального комиссара госбезопасности Ягоду в запас, назначив на эту должность Ежова. На процессе предстала группа руководителей народного хозяйства различных регионов страны, арестованных осенью минувшего года.
В числе 19 обвиняемых выделялись: Карл Радек, занимавший перед арестом должность заведующего бюро международной информации ЦК ВКП(б), и бывший первый заместитель наркома тяжелой промышленности Георгий (Юрий) Пятаков. Григорий Сокольников в 1933–1934 гг. был заместителем наркома иностранных дел. С мая 1935 года он работал первым заместителем наркома лесной промышленности, а к моменту ареста – заместителем начальника Центрального управления шоссейных дорог и автотранспорта НКВД СССР.
До ареста значимые посты занимали и другие участники процесса. Начальником Сибмашстроя в Новосибирске работал Бугуславский. Станислав Антонович Ратайчик являлся начальником, а И.И. Граше – старшим экономистом Главхимпрома. Главным инженером строительства Рионского азотно-тукового комбината был Г.Е. Пушин. В Западной Сибири работали Яков Наумович Дробнис – заместитель начальника Кемеровского химкомбината, и Б.О. Норкин; в угольной промышленности Кузбасса работал Алексей Шестов. Яков Абрамович Лившиц являлся заместителем наркома путей сообщения, а Иван Александрович Князев – заместителем начальника центрального управления движения НКПС. Иосиф Дмитриевич Турок был заместителем начальника Свердловской железной дороги.
В зале суда, вмещавшем до 350 человек, присутствовали иностранные и советские журналисты. Судьи, прокурор, обвиняемые, защитники, эксперты сидели на невысокой эстраде, к которой вели ступени, а барьер, отделявший подсудимых, напоминал обрамление ложи. Обвиняемые, представлявшие собой «холеных, хорошо одетых мужчин с медленными, непринужденными манерами, пили чай, из карманов у них торчали газеты, и они часто посматривали на публику».
Присутствовавший на процессе писатель Л. Фейхтвангер писал: «По общему виду это походило больше на дискуссию, чем на уголовный процесс, дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди, старающиеся выяснить правду и установить, что именно произошло и почему произошло. Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал спортивным, интересом выяснить с максимальной точностью все происшедшее. Если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности: так добросовестно и старательно не пропускали они ни малейшей неточности друг у друга, и их взволнованность проявлялась с такой сдержанностью.
Невероятно жуткой казалась деловитость, обнаженность, с которой эти люди непосредственно перед своей почти верной смертью рассказывали о своих действиях и давали объяснения своим преступлениям… Признавались они все, но каждый на свой собственный манер: один с циничной интонацией, другой молодцевато, как солдат; третий – внутренне сопротивляясь, прибегая к уверткам, четвертый – как раскаивающийся ученик, пятый – поучая. Но тон, выражения лица, жесты у всех были правдивы.
Я никогда не забуду, как Георгий Пятаков, господин среднего роста, средних лет, с небольшой лысиной, с рыжеватой, старомодной, трясущейся острой бородой, стоял перед микрофоном и как он говорил – будто читал лекцию. Спокойно и старательно он повествовал о том, как он вредил в вверенной ему промышленности.
Он объяснял, указывал вытянутым пальцем, напоминая преподавателя высшей школы, историка, выступавшего с докладом о жизни и деяниях давно умершего человека по имени Пятаков, стремящегося разъяснить все обстоятельства до малейших подробностей…»
Действительно, допрос обвиняемых проходил в деловой обстановке. Так, на вечернем заседании 23 января, рассказывая об организации вредительства, Пятаков, в частности, показал: «На Урале было два основных объекта, на которых была сосредоточена вредительская деятельность. Один объект – это медная промышленность и второй объект – Уральский вагоностроительный завод.
В медной промышленности дело сводилось к тому, чтобы, прежде всего, снижать производственные возможности действующих медных заводов. Красноуральский медный завод и Карабашский медный завод производственную программу не выполняли, происходило огромное расхищение меди, которая поступала на завод, были огромные потери….
Вышинский: А кто конкретно, персонально вел вредительскую работу?
Пятаков: В основном эту работу вел Колегаев – управляющий Уралсредмеди. <���…>На Урале строился большой медный завод. Но на этом заводе сначала Юлиным, начальником Средуралмедстроя, затем Жариковым велась вредительская работа, сводившаяся к тому, чтобы, прежде всего, распылять средства, не доводить до конца и вообще канителить со строительством. <���…>
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: