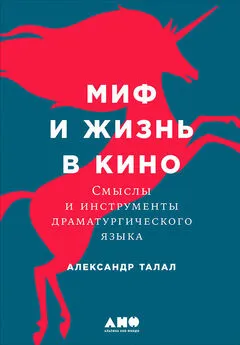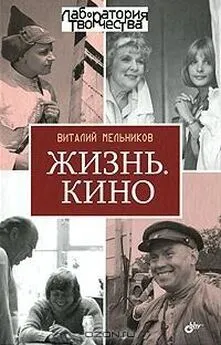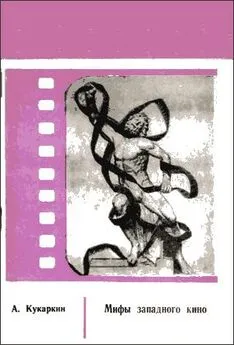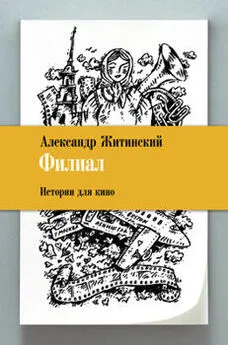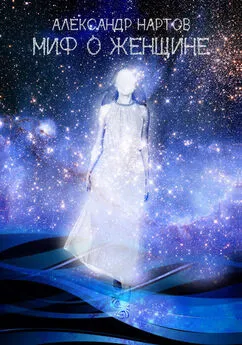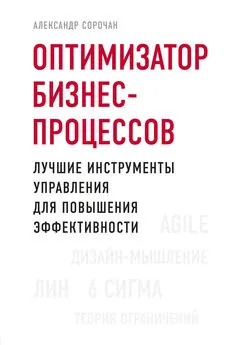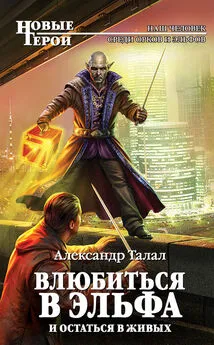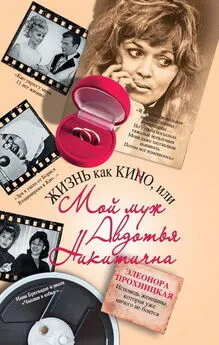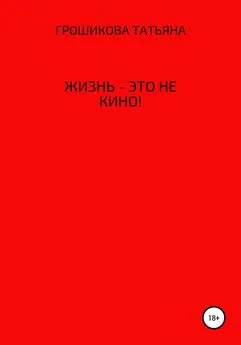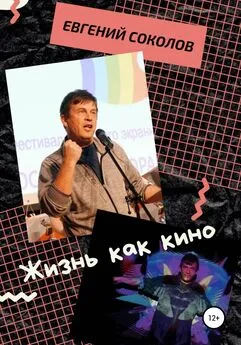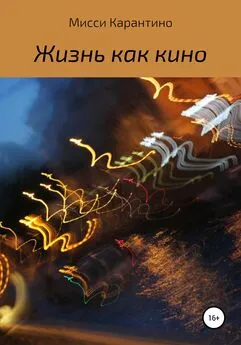Александр Талал - Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка
- Название:Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Альпина
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9614-4998-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Талал - Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка краткое содержание
Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах» – это и есть жизненная непредсказуемость. То явление, о котором Марк Твен сказал: «Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда – нет». То есть удивление, имеющее отношение не к изощренности вымысла и допущений (удивительные миры «Матрицы» и «Начала», уникальность героев и событий, уровень ставок и масштаб), а к непредсказуемости, расшатыванию векторов ожиданий и причинно-следственных связей.
В романе Нила Стивенсона «Криптономикон» есть персонаж Лоуренс Уотерхаус, талантливый математик. Во время Второй мировой войны его призывают в армию, и он вместе с другими призывниками проходит тест по математике. Задача простейшая, из разряда «пароход плывет по реке против течения, скорость такая-то, скорость течения такая-то – за какое время доберется до точки Б?». Математик Уотерхаус решает, что задача с подвохом, так просто все быть не может, нужно рассчитать, насколько течение меньше у берегов, что происходит со скоростью парохода на излучинах и так далее. С точки зрения армейских экзаменаторов Уотерхаус не смог решить простейшую задачку, его IQ считается ниже нормы, и персонаж попадает во… флотский духовой оркестр. Удивительный поворот, исполненный жизненного абсурда, но абсолютно соответствующий странной внутренней логике ситуации: уровень решения задачи не соответствует уровню математических познаний тех, кто проверяет тесты, возможно просто сравнивая ответы с «единственно правильными».
Позже, когда Япония атакует Перл-Харбор, музыканты военного оркестра оказываются в бараке с майором-криптологом, который пытается объяснить им азы шифровальной теории на примере закодированного сообщения. В армии и флоте царит смятение, духовой оркестр – не первая необходимость, и майор надеется, что, разобравшись в материале, бывшие музыканты смогут как-то помочь в сфере первой необходимости: расшифровке сообщений врага. Майор не успевает объяснить и базовые принципы, как Уотерхаус уже «взломал» код. Таким образом, в результате еще одного неожиданного, но логичного поворота Уотерхаус становится ключевой фигурой в тактической войне с врагом.
Получается, что математик в военное время оказался ровно там, где ему и место. Но прежде, чем это случилось, происходит несколько интересных, неожиданных перипетий, без которых все было бы слишком логично и предсказуемо. В этих перипетиях узнается жизненная иррациональность.
Что такое «неожиданные сюжетные повороты»? Попробую обозначить ряд категорий.
План
Наиболее понятные (не то же самое, что «простые в реализации») сюжетные неожиданности практически всегда связаны с драматургическим элементом «план». В системе Джона Труби план входит в ключевую семерку элементов, жизненно необходимых для создания успешной истории.
Кажется очевидным: любой персонаж, задумавший что-то, должен осуществлять это каким-то образом . Но даже здесь возможны отклонения. Например, у неприкаянных советских и постсоветских киногероев чаще всего никакого плана нет. С этим, собственно, и связаны их неприкаянность и отчаяние. Таковы особенности культурных кодов среды, которая, не предлагая выхода из тупика, не предлагает и плана. Естественно, сложно судить об истинной популярности таких кинофильмов, созданных в культурном пространстве, изолированном от мирового кинематографа. Тем не менее «Афоня» (у героя этого фильма, кстати, есть план, пусть ложный и комедийно эгоистичный, меркантильный, низкий, расходящийся с его истинными потребностями) по популярности значительно превосходит «Полеты во сне и наяву», где желания героя смутны, причины его мучений и метаний не прояснены, хотя, наверное, и понятны рефлексирующей публике того времени.
Возникновение плана в сюжете – еще одна точка, в которой появляется вектор ожиданий. (Основные категории векторов ожиданий – проблема и цель/желание, а план всегда относится к одной из них: план решения проблемы или план достижения цели/реализации желания.) В чем секрет плана? Что-то при его реализации обязательно пойдет не так, и чем он сложнее и детальнее, тем больше возможных непредвиденных обстоятельств и способов с ними справляться. Во многих случаях план и его срыв и обеспечивают истории волнующую прогрессию перипетий/усложнений, из-за которых кажется, что с каждым шагом герой все дальше от цели и ближе к точке «все пропало».
Бывает наоборот: у героя все получается так, как он задумал. Чтобы это было интересно, автор никогда не озвучивает план, мы наблюдаем в реальном времени за его пошаговым воплощением либо узнаем какие-то элементы плана на каждом этапе. Так устроены все «Друзья Оушена». В старом фильме «Сабрина» герой Хамфри Богарта так и не формулирует ясно, что он задумал, – именно потому, что план его, влюбить в себя Сабрину, работает на наших глазах почти до самого конца, пока он не понимает, что и сам влюбился в нее. Собственно, примерно в это время герой раскрывает план в подробностях, впервые за фильм: на том самом отрезке, когда у реализации плана появилось наконец препятствие.
В более глобальном смысле большинство сюжетных неожиданностей связано с чьим-то (зрителя в первую очередь) незнанием чьего-то плана или пробелов в чьем-то плане. В результате мы видим на экране предателей, провалы героя на пути к цели, неожиданные его победы (потому что он скрыл от нас , зрителей, свой план) и гадаем, окажется ли убийцей в детективе молочник, дворецкий или сам герой.
Звучит незамысловато, но у плана как элемента драматической истории есть большое количество вариантов использования. Например, чтобы выход из положения не стал очевидным, зрителю предлагается ложный план, о котором он может догадаться сам и который не сработает. В «Истории игрушек» соседский мальчишка-хулиган, гроза игрушечного мира, походя, ради шутки, сует спичку в пустую кобуру куклы-ковбоя Вуди, который пытается спасти игрушку-космонавта Базза (и спастись сам) из плена сорванца. Мальчишка собирается взорвать петарду, примотав ее к спине Базза. Позднее, когда Вуди и Базз, со все еще привязанной ракетой, пытаются на игрушечной машинке догнать фургон своего хозяина Энди, переезжающего с семьей в другой район города, в их автомобиле садятся батарейки. В этот момент зритель уже понимает, что можно использовать ракету и спичку. Вуди чиркает своей единственной спичкой, но… проезжающая машина тут же гасит пламя. План провалился, вектор ожиданий прервался, что дальше – зритель не представляет.
Зритель совершенно забыл сцену, в которой как бы невзначай демонстрируется способность увеличительного стекла фокусировать лучи света и вызывать возгорание. В ней мальчишка чуть не прожег Вуди лупой. Теперь Вуди обращает внимание, что круглый шлем Базза из прозрачного пластика обладает таким же эффектом. Точка света поджигает бикфордов шнур.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: