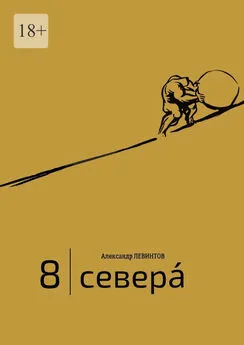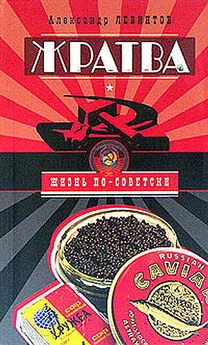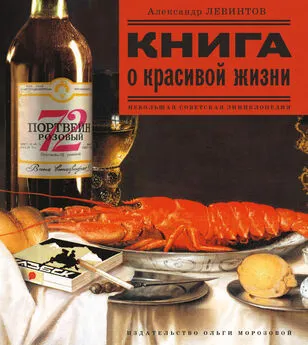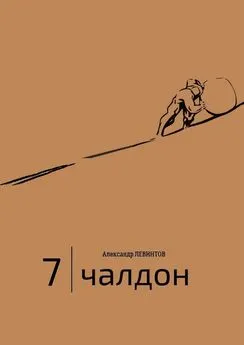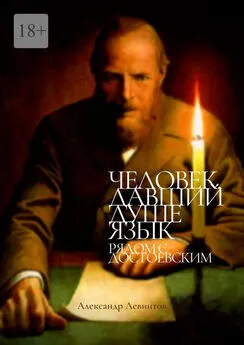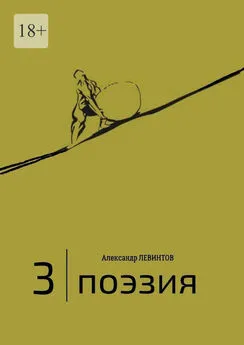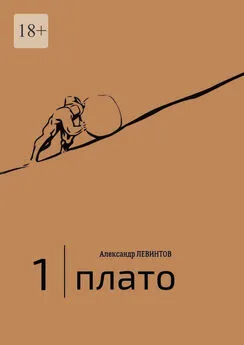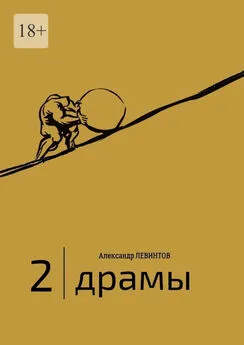Александр Левинтов - 8 | Севера́. И приравненные к ним
- Название:8
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005591418
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Левинтов - 8 | Севера́. И приравненные к ним краткое содержание
8 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При этом сказать, что зона БАМа всесторонне изучена, также нельзя, так как никто не определял, сколько и каких должно быть этих сторон. Ну, например, археологических, этнографических исследований явно недостаточно. Синологи, политологи вообще не выходили на этот плацдарм. И, как выясняется, зря.
Имела место и определенная прерывистость в исследованиях, судорожные возвраты к уже проведенным исследованиям, их подновление и очередное забвение. Таковы, например, исследования в области смежных видов транспорта – морского, автомобильного, речного, авиационного. Итог этих разработок таков, что зона БАМа в настоящее время и в обозримой перспективе лишена необходимой сети автодорог. Железнодорожная магистраль вынуждена выполнять несвойственные ей функции местного развоза и сообщения.
Исследования чаще всего проводились уже после принятия решения и были, следовательно, не исследованиями, а наукообразными оправданиями и хоть какими-нибудь объяснениями того, что уже сделано либо решено.
Масштаб научных исследований также не соответствует требованиям практики. Так произошло с Северо-Муйским туннелем. Туннелестроителям был выдан аванс в виде скального монолита. В ходе же работ выяснилось (с жертвами, катастрофами и авариями), что трасса проложена по тектоническим разломам, с удивительной и роковой точностью попадания в самые тяжелые и невероятные условия.
Ни одно решение не явилось результатом конкурса научных идей и концепций. Каждый раз это было единственное решение (варианты, предлагаемые в рамках одной разработки, – всего лишь варианты, а вовсе не принципиальные – по методу и концепции – альтернативы). Боязнь конкуренции, отгораживание своей тематики от внешнего мира и воздействия, сооружение глухих мембран и научных куреней и всегда-то небезопасны, а при исследовании единого объекта, каким является зона БАМа, чреваты.
Здесь самое время сказать о соотношении академической, фундаментальной науки, региональных и отраслевых исследований. Во-первых, из-за ведомственно-местнических перегородок фундаментальная наука реально не взяла на себя роль координатора, ограничившись проведением конференций и принятием резолюций. Во-вторых, отраслевые и региональные исследования оказались в разных «весовых категориях». Сверхмощные отраслевые институты и стоящие за ними всесоюзные министерства и ведомства откровенно правили бал, а региональные золушки стояли у окон дворца и выполняли работы мелкие, черные и незаметные.
На БАМе проявилась и еще одна негативная черта всей науки в восточной части страны. Речь идет о ее персонифицированном характере. Спрашиваем в одном хабаровском институте: «А почему у вас закрылась тематика по БАМу?» – «Руководитель работ переехал в Ростов». В Иркутске: «Уехал в Свердловск», «Уехал в Москву». А вот еще один вариант ответа: «Наше новое руководство больше интересуется КАТЭКом. У нового директора докторская по КАТЭКу». И так далее. Уехал научный лидер – и нет важнейших для региона, отрасли, страны исследований!
И все-таки, как ни тяжела ситуация с научным освоением зоны БАМа, а планка, преодоленная наукой, просто недостижима для проектирования. Разрыв между наукой и проектированием непозволительно, преступно огромный. На полках пылятся исследования, а проектировщики принимают слепые решения методом» «там посмотрим»…
Природа играет со строителями и освоенцами злую шутку, напоминающую кошки-мышки. Последние годы (шесть из семи) были засушливыми и маловодными. Достаточно сильного, даже не катастрофического, увлажнения – и построенное на высокотемпературной мерзлоте – хлюп! – исчезнет бесследно в коварных хлябях. Ученые-мерзлотоведы рекомендуют, предупреждают, предостерегают, однако их прогнозы остаются втуне, как невыгодные и не соответствующие сиюминутным интересам. При обсуждении слабой связи науки с практикой, очевидно, следует не только обвинять науку в непрактичности, но и выявлять причины, по которым практика упорно не желает учитывать научных предсказаний и предупреждений: слишком она ориентирована на узкий круг сегодняшних бед и забот, а ответственность реальна лишь на ковре у начальника и обрывается за проходной ведомства, района, области. Собственно за жизнь на БАМе во всей ее полноте и сложности не отвечает никто – ни в одиночку, ни коллегиально.
Такова на сегодняшний день научная обеспеченность «Программы», отдельных знаний вроде много, а концепции нет. И никто не представляет себе, какой должна быть в идеале зона БАМа.
Раздел «Программы», посвященный охране природы, занимает менее страницы и настолько формален, что не может рассматриваться как объект для критики:
– «в бассейне озера Байкал – предусмотрено осуществление мер по полному прекращению сброса в озеро неочищенных сточных вод, сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу, резкому улучшению санитарного состояния населенных мест, соблюдению природоохранных требований во всех видах хозяйственной деятельности, созданию заповедных территорий и национальных парков»;
– «в зоне лесов – предусматриваются интенсивное лесовосстановление, рациональное использование всех природных и биологических ресурсов лесов Дальнего Востока, уменьшение заготовок кедровой древесины, строгое соблюдение правил рубок лесов и лесопользования, повышение эффективное охотничьего хозяйства».
У нас стало тривиальным словосочетание – «рациональное природопользование» либо «рациональное использование естественных ресурсов». И уже мало кто задумывается над тем, может ли такое быть вообще? На извлечение и переработку тех или иных видов сырья, топлива, природных материалов отвлекаются огромные массы средств – материальных, финансовых, трудовых, технических. Львиная доля науки отдана этой проблематике. Опыт БАМа с наглядностью и очевидностью возвращает нас к изначальному вопросу о проблематичности и принципиальной возможности (правильнее – невозможности) рационального освоения и использования естественных ресурсов. Вот только два примера.
Себестоимость коксующегося угля, добываемого в Нерюнгри, составляет 35 рублей за тонну. Продаем его в Японию по 32 – 33 рубля. А ведь уголь еще надо довезти до порта Восточный! Кстати, и добыча-то производится преимущественно с помощью японской и канадской техники. Странная валютно-технологическая система получается: с помощью чужой техники и ради чужих нам интересов отдаем собственный естественный ресурс с убытком для себя. К этому следует также добавить, что половину добываемого угля (энергетические угли) мы вовсе не вывозим из Нерюнгри, а складируем поблизости. То же происходит со вскрышными породами. Бесконечные отвалы слабо спекающихся энергетических углей и вскрыши (по нашим оценкам, их запасы к концу века составят кучи астрономических размеров в полмиллиарда тонн), богатые тяжелыми металлами и, возможно, уже сейчас более ценные и необходимые для нас, но не составляющие интереса для Министерства угольной промышленности, «хозяина» местных недр, пока ложатся лишь тяжким грузом на себестоимость экспортируемого коксующегося угля.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: