Станислав Смагин - Горько-своевременные мысли. Что будет с Россией?
- Название:Горько-своевременные мысли. Что будет с Россией?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00180-155-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Смагин - Горько-своевременные мысли. Что будет с Россией? краткое содержание
Для широкого круга читателей, интересующихся отечественной историей.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Горько-своевременные мысли. Что будет с Россией? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Надо отметить, что достижение своего пика западной культурой, к которой примыкала и советская, особо ярко показывало всю двойственность этого пика. Ведь достигнут он был во всем, включая самые противоречивые и пикантные сферы, где достижения были одновременно приметой упадка. Сложно снять более жуткие и леденящие душу мистические фильмы, чем «Омэн», «Экзорцист» и «Ребенок Розмари», фильм более пикантный и скандальный, чем «Распутное детство» с двенадцатилетней Евой Ионеско. Все нынешние фильмы ужасов в жанре «найденной пленки» с разной степенью успеха отталкиваются от «Ада каннибалов» Руджеро Деодато, где живущие вне истории амазонские дикари-каннибалы столкнулся с еще более страшными дикарями современного Запада, возомнившими себя «сверхлюдьми».
«Ад каннибалов» – это, наверное, формально уже восьмидесятые, ибо 1980-й. А двумя годами ранее, в еще несомненные семидесятые, вышел замечательный советский фильм «Расписание на послезавтра». Он о совсем других сверхлюдях, одаренных учениках физико-математической школы (конечно же, пионерах и комсомольцах), которые рано или поздно приведут общество в тот самый коммунизм, обещанный Хрущевым как раз к году выхода «Ада каннибалов». В «Расписании» много интересных линий и моментов, но больше всего врезается в память вот какой эпизод. Одна из учениц решает выгнать из дома надоевшего старого пса, чего не допускает ее одноклассник – он берет собаку себе. Встретив мальчика с новым четвероногим другом, отец девочки и бывший хозяин собаки (его играет Владимир Басов) с теплой тоской говорит: «Я вам верю. Вы добрый. Вы заметили, это сейчас не в моде. Говорят: интеллигентный, деловой, даже предприимчивый. Но никогда добрый». До распада СССР оставалось тринадцать лет.
В 1983-м на наши экраны вышло «Чучело». Его юные герои – это уже даже не черствая девочка из «Расписания». Они стоят где-то на полпути между ней и героями «Ада каннибалов», закономерно развиваясь в сторону «Ада». От пионеров из произведений Аркадия Гайдара их отделяет полвека, они – внуки тех пионеров. А проектировщик и воплотитель в жизнь людоедской «шоковой терапии», призванной «очистить страну от скверны совчины и лишних людей», – внук Гайдара и носитель его фамилии-псевдонима.
Можно обратиться и детско-юношеской литературе тех лет, хотя бы к журналам «Костер» и «Пионер». Конечно, и до этого в рассказах, повестях и романах для подрастающего поколения совсем не все было в сусальном золоте и киселе, проблемам, трудностям и недостаткам посвящалось не меньше места. Но в 1980-х как-то особо усиливается надлом, ощущение тупика и болота, при сегодняшнем прочтении это видно с особой, мучительной ясностью. Нарастает разлад между парадными ценностями и повседневностью, втолковываемыми идеалами и бытом, вроде бы одобряемым альтруизмом и фактической низменной погоней за всем модным и заграничным, вплоть до жвачки. В замечательном романе Владислава Крапивина «Журавленок и молнии» главному герою от деда достается ценная старинная книга о путешествиях и путешественниках. Для мальчика она почти что Библия, но его отец однажды тайком сдает фолиант в букинистический магазин, чтобы расплатиться с грузчиками за доставку зеркала.
– Ты не знаешь… – проговорил Журка. – Эту книгу, может, сам Нахимов читал. Она в тысячу раз дороже всякого зеркала… Да не деньгами дороже!
– Тебе дороже! А другим?! А матери?! Ей причесаться негде было! А мне?.. О себе только думать привык! Живем как в сарае, а ты как… как пес: лег на эти книги брюхом и рычишь!
Мощный и печальный символ и аналог обмена первородства на чечевичную похлебку.
Рост потребительских аппетитов, сам по себе вполне естественный и вытекающий из человеческой природы, будучи привязанным к просачивавшимся сквозь «железный занавес» западным стандартам потребления, способствовал постепенному морально-нравственному регрессу общества. Аналогичный регресс происходил и на самом Западе, но наш упадок, имея реактивный и догоняющий (насколько к упадку вообще применимо подобное определение) характер, отличался дополнительным негативным своеобразием.
Играющая роль демпфера смягчителя и гасителя колебаний – официальная идеология заметно потеряла в эффективности, приобретя в невнятности и двусмысленности. Тот же взлет Трифонова до номинации на литературного Нобеля, как я писал и выше, и прежде, видится событием противоречивым: с одной стороны, признавались заслуги советской литературы, с другой – кандидатура певца квартирных обменов (пусть, как подсказывают мне критики, произведения Юрия Валентиновича и обладали значительным морально-этическим подтекстом) многое говорила о состоянии этой литературы, равно как и общества.
Да и та часть – весьма значительная по объему – религиозного ренессанса, что была вызвана к жизни веяниями моды, вряд ли могла быть с особым восторгом воспринята как последовательным убежденным атеистом, так и последовательным убежденным верующим.
Советское руководство к середине 70-х впало в излишнюю мягкотелость и благодушие от дипломатических успехов и иллюзии если не «конца истории», то ее торможения. «Разрядка» и ее плоды стали чересчур абсолютизироваться. Достаточно почитать роман «Победа» Александра Чаковского, где автор не жалеет восторженных красок для описания Хельсинских соглашений 1975 года, приравненных им к Победе в Великой Отечественной.
А открыв один из сборников серии «Опасным курсом», чьей целью была всесторонняя критика политики Китая, можно прочитать, что зарвавшиеся пекинские милитаристы всеми силами добиваются провокационного сближения с Западом, но мы, советские люди, надеемся, что у здравомыслящих западных политиков хватит мудрости и такта отвергнуть наглые поползновения.
То есть – дяденька капиталист, уйми хулиганов китайских. Это уже дальний предок дискурса «уважаемые западные партнеры» и разговора с данными уважаемыми партнерами в позиции взгляда снизу вверх. Дальний, но все же предок.
Параллельно советские лидеры, обожженные войной, боявшиеся войны и постоянно твердившие мантру «только б не было войны», постепенно перевели агитацию, пропаганду и культуру в режим проповеди пацифизма и абстрактного гуманизма. В результате дошло до трагического абсурда, когда Кремль ввязался в афганские события, но страшился и стыдился нормально объяснить это собственному населению, хотя объяснить вполне можно было.
И вот нерешенность дилеммы «надо воевать – но как рассказать» стала одной из причин известного исхода афганской кампании. А в это время госсекретарь США Александр Хейг произнес: «Есть вещи важнее, чем мир» – и через десять лет его страна праздновала победу в «холодной войне».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
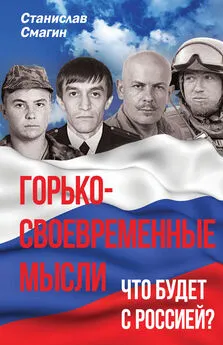

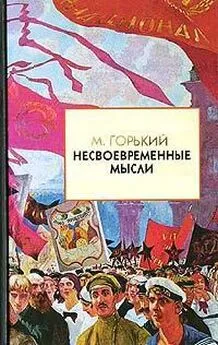
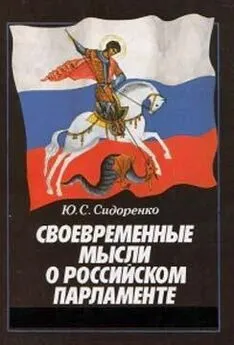
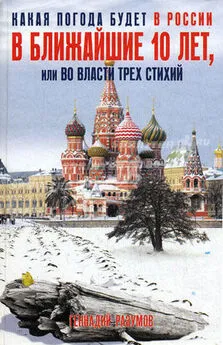
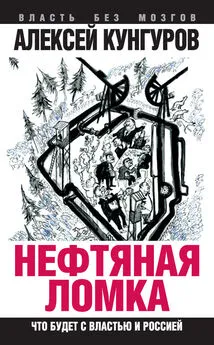
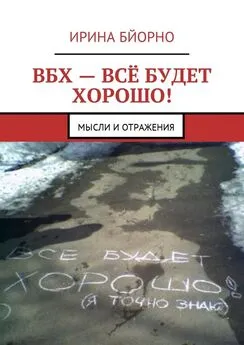
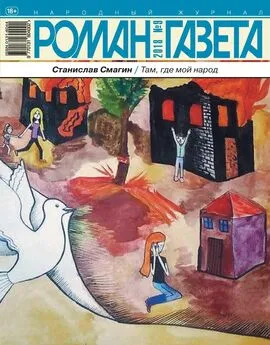
![Станислав Антонов - Красный чех [Ярослав Гашек в России]](/books/1074546/stanislav-antonov-krasnyj-cheh-yaroslav-gashek-v-ros.webp)