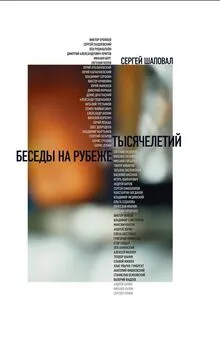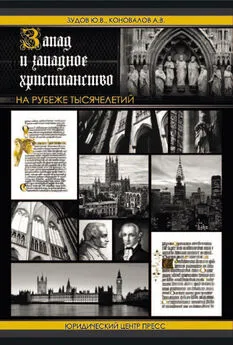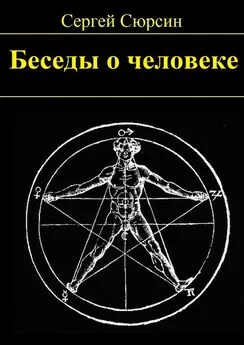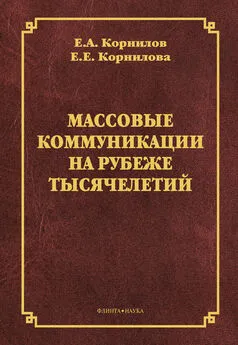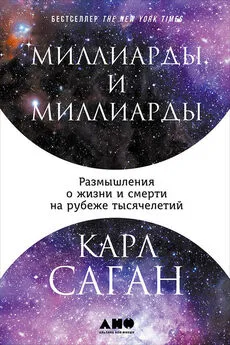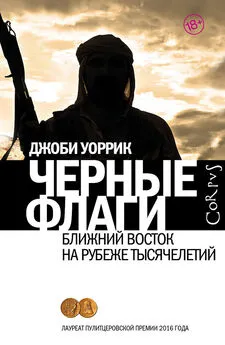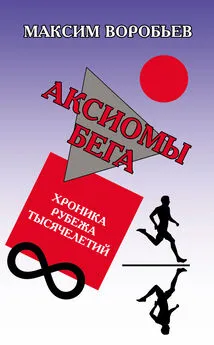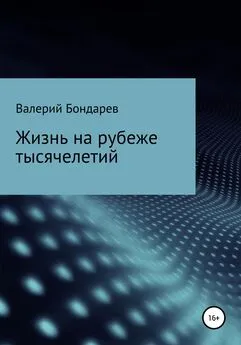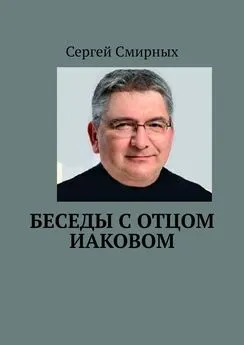Сергей Шаповал - Беседы на рубеже тысячелетий
- Название:Беседы на рубеже тысячелетий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0876-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Шаповал - Беседы на рубеже тысячелетий краткое содержание
Беседы на рубеже тысячелетий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Потом ведь понятия друг друга, как правило, перекрывают. Постмодернизм сейчас выступает как менталитет, а концептуализм как стилевое определение. В свое время концептуализм был скорее менталитетом, нежели стилем, он объединял людей по менталитету. В начале 1970-х годов возникло то, что называли либо соц-артом, либо концептуализмом, они пересекались. Скажем, соц-арт был бы ближе к поп-арту, если бы в нем была сильна предметная сторона. Но соц-арт работал с идеологемами и языком. При большей акцентации вербально-мифологического происходит сближение с концептуализмом, при большей насыщенности предметной, кичевой зоны – с поп-артом. В какой-то мере пересекаются московская концептуальная школа и соц-артистская. В литературе в то время поначалу существовали Некрасов, я и Рубинштейн, чуть позже появился Сорокин. Он моложе. Все родилось в начале 1970-х годов, оформилось где-то в 1977 году. До этого Некрасов, скажем, был знаком с Кабаковым и Булатовым – это была одна группа. Рубинштейн, Монастырский входили в другую группу. Я, Орлов, Лебедев, Косолапов – третья группа. Мы даже не были знакомы, но когда сошлись, оказалось, что делали одно и то же. Мы уже были вполне сложившимися людьми. Как раз в это время начал работать Сорокин. Собственно говоря, к концу 1970-х – началу 1980-х это было завершено и стало прошлым. Кибиров появился гораздо позже. Когда он пришел ко мне, он писал совсем иначе. Я так понимаю, что как под моим, так и Рубинштейна влиянием, он достаточно резко переменился. В его поэтику вошло не концептуальное, а соц-артистское сознание. Концептуальное сознание более жестовое и требующее созерцательно-конструктивного менталитета, а не текстового. Он человек все-таки другой формации, это, конечно, не концептуализм и даже не постмодернизм, хотя сейчас уже не имеет смысла определять стилистически, потому что все эти стилистические определения мертвы.
Мне кажется, что сложилось большое количество стереотипов (не без участия самих творцов) в восприятии всех этих направлений, которые часто заслоняют и делают второстепенным само содержание произведений. Вы в свое время потрудились над созданием такого явления, как «Дмитрий Александрович Пригов», которое теперь тоже превращается в стереотип, позволяющий быстро дать исчерпывающую оценку вашему творчеству по принципу: а, Пригов, ну как же, знаю. Вас это не смущает?
Дело в том, что «Дмитрий Александрович Пригов» существует только на уровне знакомства. Я уже давно пишу все другое. Но меня это особенно не волнует, потому что есть несколько уровней существования. Я всегда жил мимикрическим способом: среди художников не знали, что я стихи пишу, среди поэтов не все знали, что я художник. Для меня это очень важная вещь. Вообще как целостный литературный феномен по критериям состоявшейся культуры я должен существовать для очень узкого круга людей. А в виде мифологемы войти в поп-культуру – только так можно и нужно. Если в широкий круг читающих людей войдет миф Дмитрия Александровича, слава богу, больше и не надо. А для круга, оперирующего понятиями литературных направлений, течений, эстетических представлений (это очень-очень узкий круг, как и во всем мире), я уже существую несколько шире, чем Дмитрий Александрович в фуражке милиционера.
Я хочу закончить предыдущий сюжет. Была еще другая группа, «Московское время»: Гандлевский, Сопровский, Кенжеев и уехавший Цветков. Они гораздо моложе по возрасту, но по стилистике для меня они архаичны. Дело в том, что они как бы суть персонажи наших стилистических жестов и поведения. (Хотя это нисколько не говорит о реальной поэтической одаренности или о возможности найти читателя и быть им любимыми. С этим делом как раз у них все обстоит замечательно.) В предыдущей ситуации Россия была эдаким слоеным пирогом, где все, что возникало, длилось вечно. Там был пушкинский слой, блоковский, какой угодно. Ты просто настраивался на него, попадал в него и включался. Постепенно этот пирог наслаивался. Только с концептуализмом возник менталитет не текстовый, а операциональный, когда представители литературы не надстраивали новый стилистический слой, а явили динамическую модель. Для них все эти слои стали персонажами. Это могло быть принято в виде коллажа, но коллаж не как материальный текст, а как менталитет, поведенческий коллаж. Представители же «Московского времени» – хоть они и моложе, стилистически и идеологически для меня были представителями предыдущего времени. Были отдельные личности, которые существовали вне объединений, например Ольга Седакова. Она тоже значительно моложе меня, но мне она казалась чище именно по стилю поэтического поведения. Она для меня тоже полностью персонаж.
Когда я пишу, я предполагаю или полагаю, что некое культурно-стилистическое явление состоялось. Я пишу пост-. Иногда приходится моделировать состоявшееся явление. Я смоделировал, например, что как бы состоялась русская эротическая поэзия. Мне кажется, что ни у кого не было четкой эстетической и идеологической модели культурной деятельности, кроме как у концептуально-соц-артистской школы. То ли это везение, то ли подобрался круг людей, мыслящих и действующих в одном направлении. Было точно выбрано направление и произошло смыкание с мировой культурой и по времени и по позиции – пожалуй, впервые состоялась синхронизация российского культурного процесса и мирового со времен классического русского авангарда. Это была единственно чистая и новая позиция, которая смогла связать воедино личные и художественные устремления, наличие языков советско-русской культуры, незадействованных, языков отторгаемых, новое положение художника как медиатора между социальным и личным, культурным и нынешним. Все же другие деятели культуры того времени занимали уже готовые позиции между социальным и личным, современным и традицией. Когда я только начал свои знакомства с узким кругом людей, позднее ставших моими друзьями и соратниками, некоторые из них обзывали меня взбесившимся графоманом. Сначала был взбесившийся графоман. Потом чепуха какая-то, выдаваемая за поэзию. Потом это стало смешным, но все еще, конечно, не литературой. Потом стало забавным. Так вот и шло. Это я уже говорю про более широкий круг публики. Для своего круга я быстро стал вполне приемлем и понятен. Посему трудно сказать, что это мы воспитали публику – вряд ли. Просто произошло общее совпадение динамики развития общекультурного менталитета и творческого. К 1980-м годам все уже было ясно, не надо было никому ничего объяснять. На этой волне возникли всякие новые направления. Но, с моей точки зрения, это происходит на старом месте и старыми методами. Когда уже задан уровень разрешения проблем на внетекстовом поведении, спускаться назад в текст, не принимая этого во внимание, невозможно. Все равно что после огнестрельного оружия пытаться решить проблему фехтованием. Можно быть чемпионом мира по фехтованию, но решать судьбу войны таким способом можно было только во времена мушкетеров.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: