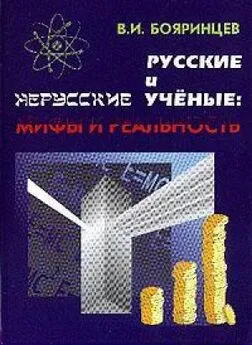Лев Аннинский - Русские и нерусские
- Название:Русские и нерусские
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978-5-4320-0047-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Аннинский - Русские и нерусские краткое содержание
Книга известного писателя, публициста, ведущего телевизионных передач Льва Аннинского — о месте России и русских в меняющемся мире, о межнациональных отношениях на разных исторических этапах, о самосознании евреев в России и вне ее, о нашем нынешнем ощущении русской истории.
Сохранится ли русский народ как нация или исчезнет с лица земли, что случалось с другими в истории цивилизаций? Автор рассматривает полярные прогнозы на этот счет, полемизируя с идеологами разных концепций и взглядов.
Русские и нерусские - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Приговор чужому:
— Я его не мог дочитать: ску-учно.
Ну, если не дочитал, если скучно, — вот и поскучай сам, зачем тянешь нас в свою скуку? Я вообще не могу понять, как может быть скучно в профессиональной работе. Если я о ком-то пишу, он уже не может быть скучен — он становится интересен, поскольку я его осмысляю.
Ну, а если и впрямь плохо написано?
Вообще-то плохо написанный текст так же интересен и так же свидетельствует о жизни, как хорошо написанный. Хорошо написанный — дополнительное удовольствие.
Ну, а если настолько плохо написано, что с души воротит?
Ну и не пиши о нем. Молчание! Не надо быть ассенизатором литературного поля, как не надо раздавать писателям награды и давать читателям рекомендации. То есть отношение к литературе не может быть отношением как к чему-то имеющему ценность вне самой этой литературы (так что оценки должны эту ценность регулировать), а может быть отношением лишь как к самоценной жизненной реальности. Сам факт общения (то есть тот факт, что я читаю какого-то автора, думаю о нем и пишу) есть уже исчерпание вопроса об оценке.
— Значит, тебе все равно, о ком и о чем писать?
Все равно. Прочитанное приобретает значимость по мере осмысления.
— Значит, ты врешь, когда добавляешь плохо написанному тексту значимости?
Вру. Но не лгу. Все эти оценки: плохо написано, хорошо написано — присутствуют у меня интонационно. Дурак не поймет, умный промолчит.
— А самого себя ты воображаешь умным?
Отнюдь. Чтобы показаться умным, достаточно быть дураком в другом, чем ожидают, роде. Это кто-то из знаменитых критиков-эмигрантов сказал, кажется, Георгий Адамович.
— Что же легче: притворяться дураком или притворяться умным?
Без разницы. И там, и тут — «роль». Человек, публикующий свое сочинение, уже выступает на сцену и претендует на внимание. Я выступаю следом, но в своей роли. Это диалог ролей.
— Но кто-то же должен в этом соревновании победить? Никто не должен. Побеждали во времена Чернышевского и Ермилова. На чем и стояла от века литературная критика.
Такие диалоги долго крутились вокруг меня, когда я пытался печататься в литературных журналах. Наконец чаша переполнилась: мне ответили, что я пишу «не о тех» писателях, и предложили заняться чем-то более значительным.
Я тихо отполз от литературной критики, благо было еще и кино, и театр, и история.
Но, как говорится, от судьбы не уйти: в эпоху перестройки, когда народ перестал читать толстые журналы (а уж критику журнальную первым делом кинул) и тексты стали приходить к читателям в виде книг, возникла нужда в предисловиях.
Тут я воспрянул. Чем хорошо предисловие? Никто не спрашивает, рекомендую ли я текст читателю, — вот он, текст, под той же обложкой, хочешь — читай, не хочешь — брось. Никто не требует оценки — она в самом факте моей статьи. И никто не подходит с претензиями: не о том пишешь. О ком хочу, о том и пишу.
Впрочем, и тут логика расчищаемого места до меня добралась. Как-то написал я предисловие к одному весьма интересному роману. Звонит издатель: а вы не будете возражать, если фрагмент из вашего предисловия мы поместим на задней обложке? Пожалуйста, помещайте.
Получаю книжку, смотрю на заднюю обложку и глазам не верю: слова мои, а в целом — какая-то сладкая каша. Составил издатель коллаж из моих вежливых обмолвок о талантливости автора. Мне это было не очень важно, но требовалось по ходу дела для смягчения некоторых острых мест анализа. А тут. я почувствовал, как издатель мучился, просеивая мой текст и выискивая — что? То самое, от чего я бежал: оценки! Будто я автора «хвалю». Будто я его «рекомендую». Реклама нужна! Двигатель торговли.
Итак, я не даю оценок, не выдвигаю обвинений, не бросаю упреков автору. Я пропускаю его текст через свою душу, его душевное состояние становится моим, я не говорю «он не понимает», я говорю: «это непонятно», «это нам с ним непонятно», «это в нашей с ним реальности непонятно». Я даже не выделяю специально наши с ним точки совпадения — это у нас не точки, а объемы, и совпадают они — изначально, фактом интереса.
А если реальность абсурдна или ложна, то и отвечаем мы за нее вместе; дело ведь не в том, что он «не то» или «не так» написал, дело в том, что написанное им (и встречно прочувствованное мной) есть продолжение реальности, нас с ним породившей.
Поэтому все «пороки полемики» с абсурдом и ложью этой реальности относятся столько же ко мне, сколько и к нему.
Тут я с удивлением и радостью осознаю, что «парадоксальный» стиль критики, который я вслепую и на ощупь вырабатывал всю свою профессиональную жизнь и из-за которой вечно ходил в чудаках, дураках ит. п., - стиль этот целиком укладывался в те новейшие правила интеллектуального общения, которые излагает Аркадий Ильич Пригожин в статье «Диалогические решения».
Dixi.
Впрочем, маленькое дополнение. Владимир Бондаренко, мой коллега по критическому цеху, недавно со смехом заметил, что писатели, довольные тем, что я разобрался с их текстами в той толерантной манере, когда ужас и абсурд бытия не сваливаются на голову оппонента, а трактуются как наша общая боль, — писатели эти после нашего диалога «улыбаются отрубленными головами».
Ода. Яи сам, читая иной раз о себе, чувствую, как голову мою весело отделяют от тела. И, улыбаясь этой косметической операции, посылаю такому оппоненту искренний воздушный поцелуй.
Суп из перочинного ножика
Либерализм! Хоть слово пусто,
Но мне ласкает слух оно.
Вариация на блоковскую тему
Да простят мне нынешние скифы самоуправство с общеизвестной цитатой из великого поэта. За такие фокусы сидеть мне в списке критиков-постмодернистов, которые подменяют протуберанцами собственного «эго» нудный мониторинг литературного процесса и с хрустом, не отходя от кассы, упиваются подобными эффектами, вместо того чтобы перелопачивать первозданный хаос, ежедневно перемалывая и подвергая анализу словесную реальность.
Может, все-таки о реальность ушибусь на этот раз.
Реальность — изящный томик под названием «Либерализм: взгляд из литературы», изданный Фондом «Либеральная миссия» (есть и такой) в итоге многодневной дискуссии («чтобы содействовать развитию либеральной идеологии. соответствующей современной России») и давший трибуну полусотне ярких авторов («литературных критиков, издателей и социологов»), из которых упомяну сразу тех, кто перечислен на обложке («Наталья Иванова, Андрей Немзер, Игорь Захаров, Дмитрий Бак, Лев Гудков, Лев Рубинштейн и др.»), добавив к «и др.» Романа Арбитмана (из коего я ради стилистического «запаха» процитировал рассуждение о протуберанцах и мониторинге).
Чувствуя, что я выпал из когорты либералов (а по мониторингу новейших экспертов и из литературной критики вообще), я воспользуюсь положением стороннего наблюдателя (вне ящика, как сказал бы Добролюбов) и прибегну к жанру, наиболее естественному для такого положения, — к заметкам на полях. Тем более что поля тучные. А что на них произрастает — попробуем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: