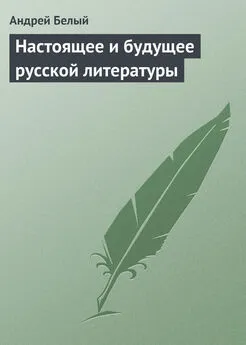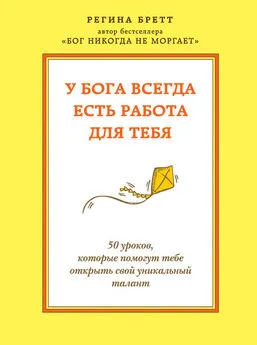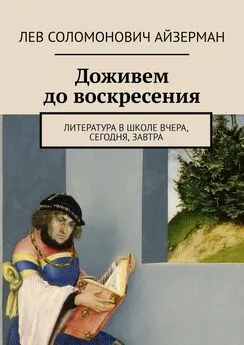Лев Айзерман - Педагогическая непоэма. Есть ли будущее у уроков литературы в школе?
- Название:Педагогическая непоэма. Есть ли будущее у уроков литературы в школе?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Айзерман - Педагогическая непоэма. Есть ли будущее у уроков литературы в школе? краткое содержание
Книга Л. С. Айзермана, заслуженного учителя России, проработавшего в школе 60 лет, посвящена судьбам преподавания литературы. Но она не только о школьных уроках литературы. Она о том, как меняется в нашей жизни отношение к литературе, нравственным устоям, духовным ценностям, эстетическим ориентирам. А потому она адресована не только учителю, но и всем, кого волнуют проблемы нашей современной жизни и нашего будущего, судьбы молодого поколения. Книга рассказывает отцам о детях, а детям – об отцах.
Педагогическая непоэма. Есть ли будущее у уроков литературы в школе? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как в лирике М. Ю. Лермонтова воплотился романтический идеал поэта? Как вы понимаете понятие «обломовщины»? Какие нравственные проблемы решает автор «Слова о полку Игореве» своем произведении? Что свидетельствует о недолговечности власти кабаних и диких? Каким образом выражена авторская позиция в рассказе А. И. Бунина «Господин из Сан-Франциско? В чем главный изъян теории Раскольникова, определивший ее крах? Как вы понимаете метафору «дубина народной войны» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»? Какую идейную нагрузку несут на себе финальные сцены пьесы А. Н. Островского «Гроза»? В чем противоречивость изображения Н. А. Некрасовым крестьянской Руси? (По поэме «Кому на Руси жить хорошо?»)
Итак, идея, понятие, нравственные уроки, проблемы, авторская позиция, метафора, идейная нагрузка. И вспоминается Обломов, его слова о литературе: «Человека, человека дайте мне!» А если вы прибавите сюда задания, где надо найти эпитет, назвать рифму, ассонанс, классицизм, символизм, то вы увидите, что это все один почерк обездушивающего псевдолитературоведения, якобы приобщения к науке.
Но есть в этих вопросах и другое. Они догматичны по своей сути. Все ответы уже даны. Вопросов нет. Надо лишь подогнать написанное под готовый итог. Идеал лирики Лермонтова – романтический. Власть диких и кабаних – недолговечна. В теории Раскольникова есть главный изъян. Крестьянская Русь изображена противоречиво. Или вот такая тема: «Чем особенно отвратителен автору мир Костылевых?» (По пьесе М. Горького «На дне») Чего тут думать: отвратителен и баста. Я уже не говорю о том, что даже самая отличная работа на эту тему не дает возможности узнать, понимает ли ее автор пьесу: тема все-таки лежит не на главной оси произведения. Ну и о том, что для ученика это неинтересная тема. Что касается кабаних, то я уже рассказывал, как можно по-разному прочесть образ Марфы Игнатьевны. Если, конечно, не жить в мире догм и схем.
Сейчас готовятся перемены в ЕГЭ вообще и в ЕГЭ по литературе. Но что-либо можно будет сказать на эту тему только тогда, когда мы узнаем, чем все это обернется на деле.
Отвечу на вопрос, который может возникнуть у читателя. А зачем так тщательно рассказывать обо всей технологии преподавания, экзаменов? Не проще ли сказать о том, что они устарели, не отвечают требованиям времени и смыслу литературы? Дело в том, что сами по себе общие принципы еще ни о чем не говорят. Они, кстати, могут быть и внешне правильными. Ад в деталях, частностях, в мелочах. В технологии – и победы, и поражения и провалы. Технологии определяют все, лозунги – ничего.
Я это особенно хорошо понял после того, как в 5-м номере журнала «Знамя» за 2009 год была опубликована моя статья «Технология расчеловечивания, или Как русский язык послали на три буквы». Мне тогда многие говорили, что только после этой статьи они поняли, что же происходит в школе, потому что там была, как говорят следователи, убедительная доказательная база. То есть раскрыты технологии. И сейчас моя главная задача – все показать, доказать, раскрыть, убедить. На уровне общих идей это сделать никак нельзя.
5. «РАБСКАЯ ЛЮБОВЬ»
Эта книга – о преподавании литературы. Поэтому я не касаюсь проблем экзаменов по русскому языку. Интересующиеся моим отношением к ним могут прочесть только что упомянутую мою статью в «Знамени». Но есть в этом экзамене часть С, имеющая прямое отношение к преподаванию литературы. Потому что это связный текст, рассуждение, и текст этот во многом определяет и то, как станут теперь наши ученики писать и о литературе.
Задание С оценивается по двенадцати показателям, и проверяют их не компьютеры, а эксперты, люди. Экспертам этим по каждому тексту дают шпаргалки. Нет-нет, они, конечно же, называются по-другому: «информация по тексту», «модель ответа» или даже «эталон ответа».
«Для экспертов, проверяющих работу выпускника, – читаем мы в методических рекомендациях, – дается информация о тексте в табличной форме, отражающей проблематику исходного текста и позицию автора. Эти проблемы в той или иной форме должны быть отражены (курсив мой. – Л. А.) в сочинениях выпускников».
То есть если нельзя поставить на выполнение работы компьютер, то следует человека опустить (или, может быть, поднять?) до его уровня, заранее запрограммировав.
Посмотрим, как все это выглядит на самом деле, на практике.
Сначала на экзаменах, а теперь уже и в пособии для учеников предлагается как текст С горестное размышление Сергея Михалкова. Вот абзац из него:
«Как-то побывал я в тех местах, где дед Мазай спасал несчастных зайцев. Ребята, с которыми я разговаривал в одной из деревень, рассуждали о космических кораблях, о полетах на Луну, о событиях в мире. Но когда я заговорил с ними о Некрасове, напомнил строки, где поэт описывал их родные места, ребята замялись, и никто не смог прочитать наизусть из “Деда Мазая” ни одного четверостишия. Я с горечью подумал: а не была бы богаче их душа, если бы наряду с тем, что они знают о науке, о политике и технике, они знали бы еще и стихи – много стихов! – Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока и других замечательных русских поэтов?»
Это написано по-человечески – свободно, живо, эмоционально. А вот во что этот текст превратился в «информации о тексте» – то есть в шпаргалке для учителей, которые будут проверять экзаменационные работы, сверяя их с этим самым эталоном:
«Основные проблемы: 1) проблема чтения в детстве (какова роль чтения в детстве в период становления личности человека); 2) проблема влияния книги на судьбу человека (как меняется человек под влиянием книг?). Позиция автора: 2) чтение в детстве имеет огромное значение, так как общение с книгой формирует личность человека и обогащает ее; вовремя прочитанная книга может определить психологию, мировоззрение, нравственные принципы человека…»
И далее в том же духе. Так должен писать эталонный школьник. Вместо живого, непосредственного взволнованного слова – казенная, бездушная, квазинаучная тягомотина.
Не сегодня все это началось. Вот что писал Василий Розанов в «Сумерках просвещения»:
«Ужасно странен язык… он как-то сделан, придуман, точно это язык для письменных испытаний, специфически выработавшийся педагогический “воляпюк” (заглянем в словарь: “воляпюк” – набор непонятных слов, пустых, бессодержательных фраз. – Л. А.). Его образцы следовало бы опубликовать: это обезьяна, выучившаяся по-русски, как в зоологическом саду есть слоны, танцующие французскую кадриль. Русский язык в колоритности и живости своей, в своем народно-бытовом аромате, забыт вовсе».
Интервал:
Закладка: