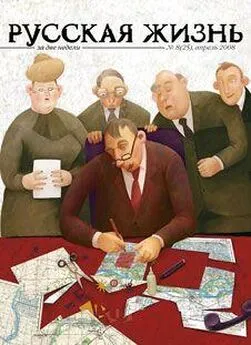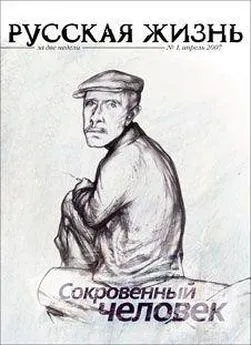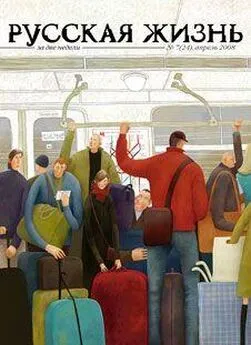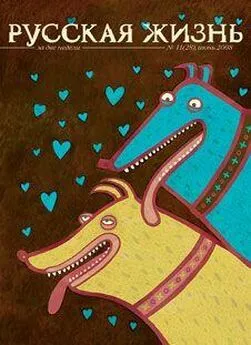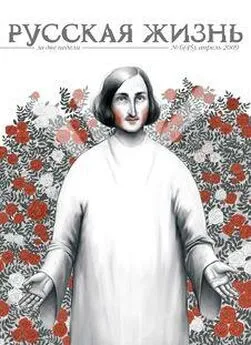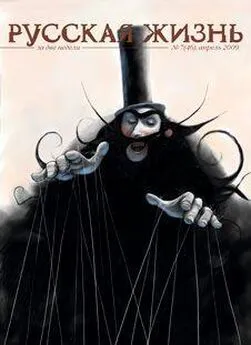Журнал Русская жизнь - Земство (апрель 2008)
- Название:Земство (апрель 2008)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал Русская жизнь - Земство (апрель 2008) краткое содержание
Содержание:
НАСУЩНОЕ
Драмы
Лирика
Анекдоты
БЫЛОЕ
Мария Покровская - Как я была городским врачом для бедных
Земство или советы
Алексей Митрофанов - Приемный покой
Захар Прилепин - Великолепный Мариенгоф
Юрий Гурфинкель - Беседы наедине
ДУМЫ
Андрей Громов - Пат местного самоуправления
Василий Жарков - Деревянная демократия
Ирина Прусс - Как пытались обустроить Россию
Евгения Долгинова - Несите, голуби, несите
ОБРАЗЫ
Олег Кашин - Жизнь с мертвецом
Михаил Харитонов - Самодуры
Дмитрий Быков - Два в одном
ЛИЦА
Домохозяева
Олег Кашин - Умный враг
ГРАЖДАНСТВО
Евгения Пищикова - Сельский мир
Александр Можаев - Пересчитанные кирпичи
Павел Пряников - Молиться - в сосняке
Евгения Долгинова - Замороженный конгресс
ВОИНСТВО
Александр Храмчихин - Земляки
ПАЛОМНИЧЕСТВО
Людмила Сырникова - Do not touch
ХУДОЖЕСТВО
Аркадий Ипполитов - Призрак нашей свободы
Денис Горелов - Моя милая в гробу
Максим Семеляк - Текст в большом городе
Земство (апрель 2008) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Любовь Ефимовна тоже из семьи старообрядцев. Только что она закончила неприятный для нее разговор по телефону: москвичи-дачники срезали на окраине села медные электрические провода и выкрутили несколько лампочек у местного Дворца культуры (потом она еще раз с нажимом произнесет, что это сделали не местные - не в обычаях старообрядцев совершать такие гадости). Она еще какое-то время хмурится, а потом переводит разговор на радостные новости. «Хорошо, что „Мосэнерго“ скупила наши совхозы - в 2009 году у нас, согласно закону, по-настоящему заработает местное самоуправление, и налоги потекут теперь в нашу казну. А то ведь в сельском поселении на двадцать восемь деревень и четыре тысячи человек всего две небольшие фабрики - деревообрабатывающая и прядильная, особо не разгуляешься. Ну, экономика экономикой, а есть ведь и другая жизнь! Вы наши новые молельные дома видели? Они теперь в каждой деревне есть!» Любовь Ефимовна перечисляет жертвователей на молельни, рассказывает, как протекала стройка, кто что сказал, когда над селом вознесся крест (то есть это уже не деревня, раз есть храм, а село, и, выходит, Любовь Ефимовна управляет уже не деревнями, а селами). Наиболее сложно, по ее словам, было с молельней в Абрамовке - там пришлось устраивать ее в здании бывшей библиотеки. Но местные жители сами настояли, чтобы библиотеку уплотнили, и теперь в одной половине избы молятся, а в другой читают книжки.
Еще Любовь Ефимовна надеется на возрождение местных монастырей - до революции они были центрами экономической активности, почему бы им не стать таковыми и сейчас? Все какие-то деньги в бюджет.
Замглавы сельского поселения подходит к окну, но теперь она всматривается не в опушку кладбища, где под красными лентами на сосне стоят велосипеды, а в далекий трактор на горизонте. «Самый разгар работ сейчас. Деревни опахиваем - от лесных и полевых пожаров (поля, пустовавшие в течение 15 лет, превратились в дикую степь с мелколесьем и сухим бурьяном по весне). А то опять москвичи-дачники станут по пьянке устраивать поджоги».
Еще у гусличан есть задумка: открыть в ближайшее время 7-10 музеев, например, музей фальшивых денег (старинного местного промысла) или рукописных церковных книг. Любовь Ефимовна всецело поддерживает эту идею, потому как после 2009 года, когда сельским поселениям должны дать больше прав, в том числе и в сфере хозяйствования, деньги от музейной деятельности должны полностью оставаться в местных бюджетах.
Есть идея поставить и большой, метров в 15-20, в электрических гирляндах, старообрядческий крест на въезде в Гуслицы с Егорьевского шоссе. По слухам, вроде бы за финансирование должно взяться «Мосэнерго» - своего рода пожертвование за право скупить здешние совхозы.
Лишь бы только москвичи-дачники не спилили этот крест на металлолом.
Евгения Долгинова
Замороженный конгресс
Лексикон против автомата
I.
В жизни каждого большого города, а в особенности столиц, должен быть одиозный, даже кощунственный, большой архитектурный проект - и долгая, страстная, упоительная борьба горожан против оного. Чаще всего она вполне бессмысленна, но сама по себе прекрасна. Культурно-экологическая тематика в протестном движении - в большой моде. В Москве будоражил умы церетелиевский Петр, в Петербурге - проект новой Мариинки и газпромовская «кукуруза», а в Ижевске, столице Удмуртской республики и родине автомата Калашникова, - проект 120-метрового конгресс-центра «Калашников».
Посреди Ижевского пруда - главного городского водоема - намеревались насыпать остров, перекинуть с набережной мост (буквально по Манилову: «чрез пруд выстроить каменный мост») и возвести на острове 120-метровой высоты хайтековскую хреновину - три здания в символике АК-47: гостиница, офисы, торговые центры. Приклад - въезд, шахта лифта - ствол, сам лифт - пуля. Остроумно, брутально, модерново, патриотично, респектабельно, брендово, наконец!
Мегапроект стоимостью в 6,5 миллиарда рублей (из них 6 миллиардов внебюджетных) возник, как считают горожане, с тяжелой руки высокого гостя - Германа Грефа, разочарованного бестолковостью и безликостью городской архитектуры (бывший призаводской поселок Ижевск действительно не обладает ансамблем даже в исторической части) - и посоветовавшего ижевским властям обратиться к молодому петербургскому архитектору Михайлову, в архитектурное бюро с футурологическим названием «32 декабря». Сказано - сделано: Михайлов разработал план реконструкции набережной и в одночасье стал ижевским церетелием. Заказчиком выступили администрация Ижевска и бизнес-сообщество. Макет провезли по Европе, представляли на бизнес-форумах. А осенью - как положено - вылезла городская общественность и заголосила: «Долой!»
Но если бы просто «долой», «не пущать», «встанем грудью». Но если бы просто пикеты и митинги - кого этим можно удивить: Ижевск - город с очень высоким индексом организованной протестной активности, здесь чуть ли не ежедневно «кто-то о новой свободе на площадях говорит», и смутьяны с микрофонами - органическая часть городского ландшафта, против точечной застройки сколько раз шумели, неужто сейчас промолчат. Но если бы просто дежурные («проплаченные конкурентами») зеленые или историки-ретрограды, - но движение «Общественная экспертиза» предложило власти совсем другой язык и совсем другую логику.
Такую логику, к которой просто нельзя было не прислушаться.
22 февраля президент Удмуртской республики А. Волков объявил о замораживании проекта на неопределенный срок. Потому что «народ еще не готов», сказал он.
Прямо так и сказал.
II.
Мне хотелось бы написать духоподъемную историю о редком торжестве гражданского общества над градостроительным волюнтаризмом, о том, как горожане уважать себя заставили и обрушили большие бизнесы, - а иначе зачем ликует заголовок на домодельном сайте «Общественной экспертизы»: «Интеллигенция отстояла честь и достоинство города оружейников!» (правда, с оговоркой «Расслабляться рано» - проект заморожен, но не закрыт). Но история получается о чем-то другом: ключевое слово в ней не «победа», а «интеллигенция». Это сюжет противостояния двух сословий - бюджетной (вузовской, музейной, научно-технической) интеллигенции и республиканской номенклатуры - противостояния прежде всего этического и стилистического и, казалось бы, изначально обреченного. Первые наивно и патетично апеллируют к переживаниям, которых просто нет, не должно быть в тезаурусе вторых, не вникают - и не собираются вникать в генеральную - экономическую - логику, устраивают вполне идиотские хеппенинги (например, запускают 120-метровую связку воздушных шаров, чтобы показать, что башни-автоматы будут выше главного в городе Михайловского собора, что, по их мнению, должно оскорбить чувства верующих), проводят общественные дебаты, пишут статьи и письма - собственно, что еще они могут? Ни административных рычагов, ни связей в сферах влияния у них - спецов с 8-10-тысячными зарплатами - нет, и против шестимиллиардного лома нет приема - только пространство говорения, только вербальные практики.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: