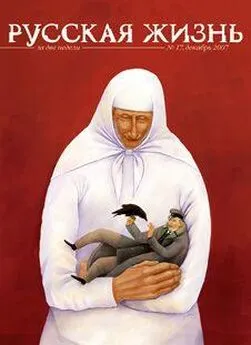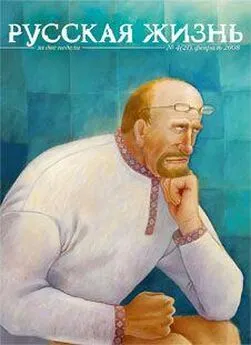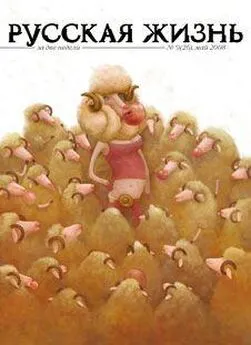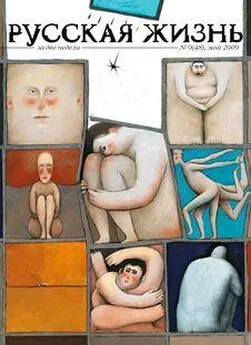Журнал Русская жизнь - Лень (май 2009)
- Название:Лень (май 2009)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2009
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал Русская жизнь - Лень (май 2009) краткое содержание
Содержание:
НАСУЩНОЕ
Драмы
Хроники
Анекдоты
БЫЛОЕ
Скажи-ка, дядя!
Пасека
Ярослав Леонтьев - Буйные шиши
Мария Бахарева - По Садовому кольцу
ДУМЫ
Борис Кагарлицкий - Имитация лени
Максим Кантор - Реквием по сверхчеловеку
Евгения Долгинова - Жизнь природы там слышна
ОБРАЗЫ
Евгения Пищикова - Волоперы
Захар Прилепин - Давайте объяснимся
Михаил Харитонов - Швайнехунд
Аркадий Ипполитов - Апология стрекозы
ЛИЦА
Олег Кашин - Изгнанник
Апельсиновая аллея
ГРАЖДАНСТВО
Екатерина Шерга - Человек бегущий
ВОИНСТВО
Александр Храмчихин - Четвертая китайская стратагема
ХУДОЖЕСТВО
Дмитрий Быков - Цыган
Лень (май 2009) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ни для кого не секрет, что условно-варяжской ментальности ближе Солженицын, а условно-хазарской (которая к еврейству далеко не сводится) - Шаламов, русейший из русских, со священническими корнями. Да ведь и большинство русских радикальных революционеров были беспримесно местными, и опирались в своем радикализме не на Троцкого, а на Циолковского с Федоровым да Бакунина с Кропоткиным, на странную смесь анархизма и космизма, которую при внимательном изучении можно проследить и у Шаламова. Домбровский - путь совершенно иной, и немудрено, что он поддерживал вполне дружелюбные отношения с непримиримо не любившими друг друга Шаламовым и Солженицыным (с первым попросту дружил, второго уважал на расстоянии, но, уверен, если бы Солженицын вообще был склонен к неформальному общению, Юрий Осипович и с ним нашел бы общий язык). В чем состоит эта цыганщина? Попробуем проследить ее составляющие, это тем более важно, что случай Домбровского, в общем, единичен. Цыгане и так-то количественно немногочисленны по сравнению с русскими и евреями, и, может быть, именно потому тема цыганского геноцида почти не отражена в литературе, а ведь Гитлер истреблял цыган так же поголовно, как евреев (об этом, в сущности, написана одна приличная книга, и то косвенно - «A Brief Lunacy» Синтии Тэйер). Домбровский мог бы повторить самоопределение Хлебникова: «А таких, как я, вообще нет». Ученики - отсутствуют, из современников, кажется, ближе всего был ему упомянутый Окуджава, из последователей - не знаю даже, кого и назвать. С чьих страниц еще бьют такие снопы света, так хлещет радость, так смеется мир? И все это написано так, что опыт автора читателем чувствуется и учитывается, Домбровский умел как-то это в проговорках протащить, так что солнце еще ярче по контрасту; у него и прототипа нет в русской литературе - вырос ниоткуда, торчит одиночкой, генезис неясен. Стихи его мало похожи на творчество других тогдашних замечательных аутсайдеров - Липкина, Тарковского, Штейнберга, хотя формальные сходства прослеживаются; у Домбровского нет их классичности, холодности, некоторого ассирийского герметизма, которого набрались они в своих восточных переводах; он гораздо менее пафосен и более открыт. Нет и блоковской самоцельной музыкальности - все очень по делу; сам он часто - формально и содержательно - отсылается к Лермонтову, и роднит их, пожалуй, сознание силы, - но Домбровский начисто лишен лемонтовского демонизма. Пожалуй, поставить рядом с ним действительно некого - разве что в Пушкине что-то такое было, но в Пушкине ведь есть все. Домбровский уникален, как уникальны в мировой культуре цыгане - следы очень древнего и очень странного народа; были, наверное, и другие такие, но поголовно вымерли. А эти как-то ушли.
Одна из доминант мировоззрения Домбровского - врожденное отсутствие страха; даже в последнем рассказе «Ручка, ножка, огуречик», где он предсказал собственную судьбу, повествователь боится не того, что нападут гэбэшные урки, а того, что не сумеет как следует отбиться. Метафизика страха в русской литературе - тема отдельная, мы тут ее коснемся бегло, - но вообще русская литература очень много боится, и есть чего. И это не легкий, развлекательный в сущности страх готических историй, и даже не тяжелый, но смиренный, покорный страх Кафки, - а трепет бунтаря, обреченного на вечное преодоление себя. Он иначе не может, уважать себя не будет и, как следствие, лишится творческой способности, а значит, приходится вставать и делать шаг, ничего не попишешь. Но он слишком знает, что будет, и понимает даже, что никто не оценит, - а тысяча не сделавших никакого шага еще и возненавидит, - а потому никаких утешений, кроме сознания своей правоты, у него нет. Да и с сознанием правоты - проблемы. Кому-то этот страх необходим для игры и самоподзавода, как Синявскому (вот кто отчасти близок Домбровскому, тот же авантюризм, вызов, примат эстетического); у кого-то, как у Бориса Ямпольского, он становится главным содержанием жизни. Даже у Солженицына много этой оглядчивости. У Домбровского ее нет начисто - когда надо драться, он дерется, причем, как цыган, без правил.
Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых навостренных топора.
По всем законам лагерной науки
Пришел, врубил и сел на дровосек;
Сижу, гляжу на них веселым волком:
«Ну что, прошу! Хоть прямо, хоть проселком…»
- Домбровский, - говорят, - ты ж умный человек,
Ты здесь один, а нас тут… Посмотри же!
- Не слышу, - говорю, - пожалуйста, поближе!
Не принимают, сволочи, игры.
Стоят поодаль, финками сверкая,
И знают: это смерть сидит в дверях сарая,
Высокая, безмолвная, худая,
Сидит и молча держит топоры!
Как вдруг отходит от толпы Чеграш,
Идет и колыхается от злобы:
- Так не отдашь топор мне?
- Не отдашь!
- Ну, сам возьму!
- Возьми!
- Возьму!
- Попробуй!
Он в ноги мне кидается, и тут,
Мгновенно перескакивая через,
Я топором валю скуластый череп,
И - поминайте, как его зовут!
Его столкнул, на дровосек сел снова:
«Один дошел, теперь прошу второго!»
Сравните в «Ручке, ножке, огуречике»: «Он подошел к столу, открыл ящик, порылся в бумагах и вынул финку. С год назад с ней на лестнице на него прыгнул кто-то черный. Это было на девятом этаже часов в одиннадцать вечера, и лампочки были вывернуты. Он выломал черному руку, и финка вывалилась. На прощание он еще огрел его два раза по белесой сизо-красной физиономии и мирно сказал: „Уходи, дура“. Что-что, а драться его там научили основательно. Финка была самодельная, красивая, с инкрустациями, и он очень ею дорожил. Он сжал ее в кулаке, взмахнул и полюбовался на свою боевую руку. Она, верно, выглядела здорово. Финка была блестящая и кроваво-коралловая». Посмотрел сейчас и я на эту «боевую руку» - и понял: ближайший к нему - все-таки Лимонов, конечно. Та же нежность, умение ценить прелесть мира и его краски, то же бродяжничество, элегантность, веселье - и совершенная безбашенность в экстремальной ситуации. И та же равная одаренность в стихах и прозе.
Другая составляющая этой литературной - и этической - цыганщины задана уже в ранних текстах Домбровского: это эстетизм, конечно. Не эстетство, а именно эстетизм, который в идеале сводится, по-моему, в прицельной способности замечать в мире главным образом прекрасное, в сосредоточенности на нем. Вот ведь что еще очень важно в позиции Домбровского: для Солженицына лагерь - горнило, кузница, точка преображения. Для Шаламова - модель мира, невыносимо сгущенная, более откровенная, но в целом он и в мире видит только это: насилие, ужас, все под прикрытием лицемерия. Для Домбровского же лагерь - досадное препятствие на пути вольного странника; это есть, и мир в значительной степени из этого состоит, но фиксироваться на этом нельзя, не нужно. Это как в гениальной реплике Юрия Живаго: «Смерть - это не по нашей части». Она есть в мире, она играет в нем немалую роль, но это - не сущностное, не наше; может быть, это мировоззрение наиболее целостно описано у Грина в «Отшельнике Виноградного пика», и не зря Домбровский любил Грина (и не зря столько же пил: чтобы поддерживать себя в этом бесстрашном, жизнелюбивом, любующемся состоянии - нужно пить много, и вообще скольких гадостей и подлостей не было бы совершено, если бы все мы были слегка подшофе, слегка, не слишком!). И третья составляющая этого мировоззрения, неразрывно связанная с предыдущей, - женолюбие, культ женской прелести; один из лучших его рассказов о любви - «Хризантемы на подзеркальнике», но у Домбровского ведь и в романах нет ни одного непривлекательного женского образа. Не считая, конечно, самой «Леди Макбет» в замечательном рассказе, - и то этим абсолютным злом он отчасти любуется: очень уж законченный, совершенный в своем роде случай: «У меня - на что я спокойная! - все сердце вскипело, на него глядя. Ходит, дохляк, книжечки читает, зудит себе под нос невесть что! Я за свое самолюбство убью! И на каторгу пойду! А он что? Ни стыда, ни совести, наплюй ему в глаза, все будет божья роса! Вон видишь, какие у меня зубы? Живьем слопаю, как только узнаю! Так ты и помни!».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: