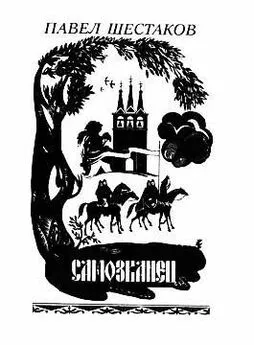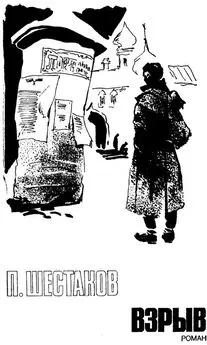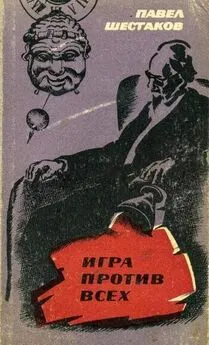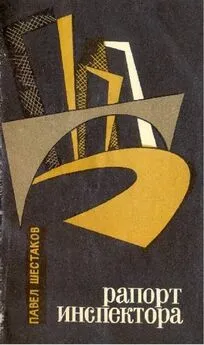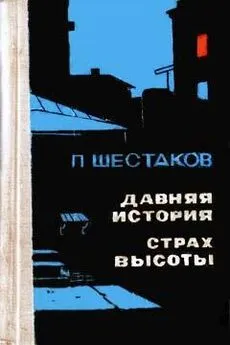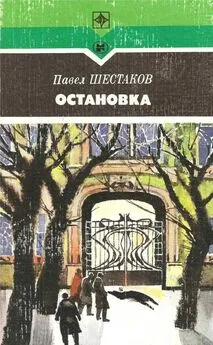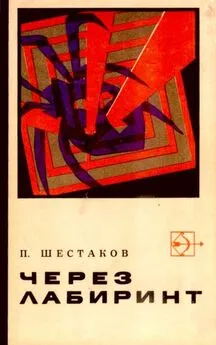Павел Шестаков - Самозванец
- Название:Самозванец
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ростовское книжное издательство
- Год:1990
- Город:Ростов-на-Дону
- ISBN:5-7509-0094-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Шестаков - Самозванец краткое содержание
Павел Шестаков хорошо известен читателям как автор остросюжетных произведений. Его новая книга совсем иного свойства. Она посвящена одному из драматичнейших событий в истории Руси начала XVII века и главной фигуре этих событий — беглому монаху Чудова монастыря Григорию Отрепьеву, который, объявив себя сыном Ивана Грозного Дмитрием, предъявил права на русский трон. Эта книга не историческая повесть и не научное исследование. Историк по образованию, П. Шестаков полностью владеет фактическим материалом; писатель по призванию — он смело подключает фантазию, подает факты в необычном ракурсе, размышляет над ними раскованно и нешаблонно и приглашает читателя поразмышлять вместе с ним.
Самозванец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Низвергнуть Луну», а точнее мусульманский полумесяц, было великим замыслом самого Дмитрия, но в Европе относились к нему по-разному. Австрия фактически прекратила войну с Турцией. Больше того, в Польше опасались союза с немцами и готовы были пойти на такой союз только в том случае, если все имперские князья дадут общую союзную клятву, а это требование к разделенной Германии было заведомо невыполнимо. Опасались в Республике в случае войны с Портой и оказаться на направлении главного турецкого удара.
Тайная дипломатия кипела, стремясь совместить самые разнообразные интересы, и пока безрезультатно.
Дмитрий убеждал папу Павла V через графа Александра Рангони, племянника нунция, повлиять на императора Рудольфа, не допустить его примирения с Турцией. Умный папа, понимая реальную неосуществимость прочного союза таких разных государств, как Империя, Речь Посполитая и Русь, желал, однако, нанести по врагам христианства хотя бы ограниченный удар и предлагал Дмитрию начать с Крыма, чтобы «отрезать у султана крылья и правую руку».
Дмитрий был готов обсудить и такой вариант, но опирался на свой, «азовский» план, в котором большую роль играл Северный Кавказ. В Москву поступили сообщения о победах терских воевод и казаков, в результате чего некоторые зависимые от Турции владетели-горцы присягнули России. Надеялся Дмитрий и на Персию, куда было отправлено дружественное посольство к шаху Аббасу. Таким образом, левый фланг России был вполне надежен.
В центре настойчиво накапливались силы. В Елец было отправлено «множество пушек», там должны были собраться полки, одни уже подошли, другие, из Новгорода и Пскова, стояли под Москвой.
Видимо, ударом на Азов Дмитрий хотел рассечь силы противника в Крыму и на Кавказе и выйти широким фронтом к Черному морю, от Кубани до Днепра за сто семьдесят лет до Екатерины. Однако грандиозный замысел без активной польской поддержки на правом фланге грозил обернуться авантюрой.
Вот в чем была для Дмитрия основная цель переговоров. А по городу враги царя шептали совсем иное: договариваются, мол, о введении католичества, что уже и папе, и Сигизмунду представлялось делом весьма отдаленным; делят русские земли, хотя царь и заявил, что ни пяди не будет отдано.
Слухи, увы, имеют тайную силу…
На самих переговорах, несмотря на обнадеживающие речи, чувствовалось, что Сигизмунд вовсе не энтузиаст южного похода, хотя союзом с Дмитрием и дорожит. Но стоит между ними в трудный час Северская земля, и больше юга влекут короля притязания на шведский престол. Дмитрию приходится маневрировать — за землю готов откупиться, обещал помочь и в борьбе за скандинавскую корону.
К трудностям по существу прибавился и новый спор о пресловутом титуле.
Собственно, с него и началось.
После приветствия Стадницкого к царю торжественно двинулись послы.
С Олесницким в Польше они были почти приятели, теперь им предстоит отстаивать разные государственные интересы.
Произнеся положенное приветствие, Олесницкий передал царю королевскую грамоту.
Взял грамоту и просмотрел первым незаменимый Власьев.
Потом тихо сказал что-то Дмитрию.
Оба были ошеломлены. Король не только не называл царя цесарем, но даже и великим князем, а просто князем!
Власьев повернулся к послам и решительно протянул грамоту назад.
— Сия грамота писана к какому-то князю Димитрию, а монарх Российский есть цесарь. Если это послам неведомо, то они должны взять грамоту и ехать обратно к своему государю.
Теперь ошеломлены послы, которые, видимо, не ожидали такого афронта.
— Что делается! Оскорбление беспримерное для короля! — восклицает Олесницкий. — Для всего нашего отечества, где мы еще недавно видели тебя, осыпаемого ласками и благодеяниями!
Ты с презрением отвергаешь письмо его величества на сем троне, на коем сидишь по милости божьей, государя моего и народа польского!
Это ответное оскорбление. Да, трудно совмещать пиры и переговоры.
В ответ Дмитрий, сняв корону, ибо обычай не позволял монарху унижаться до спора с послами, пытается объяснить:
— Король упрямством выводит меня из терпения! Ему изъяснено и доказано, что я не только князь, не только господарь и царь, но и великий император в своих неизмеримых владениях. Сей титул дан мне богом, и не есть одно пустое слово, как титул иных королей. Ни ассирийские, ни мидийские, ниже Римские цесари не имели действительного права так именоваться!
Пан Олесницкий! Спрашиваю, мог ли бы ты принять на свое имя письмо, если бы в его надписи не было означено твое шляхетское достоинство?
Сигизмунд имел во мне друга и брата, какого еще не имела Республика Польская, а теперь вижу в нем своего зложелателя!
Далеко зашла перепалка, но до разрыва не дошло.
Обе стороны не могли позволить себе этого, и когда Олесницкий, как и потребовал Власьев, направился к выходу, Дмитрий протянул послу руку в прямом и переносном смысле, воззвав к старому другу.
Олесницкий руку не принял.
— Как вы знали меня в Польше усердным своим приятелем и слугою, так теперь пусть король узнает во мне верного подданного и доброго слугу.
— Подойди, вельможный пан, как посол.
— Подойду тогда, когда вы согласитесь взять грамоту королевскую.
Снова тупик.
Еще одно тихое совещание с Власьевым, после чего тот объявляет, что государь возьмет грамоту, ибо «готовясь к брачному веселию, расположен к снисходительности и мирным чувствам».
Послы подошли к руке.
Власьев строго подчеркивает, что после свадьбы цесарь никогда не примет грамоту без титула, которым по божьей воле обладает.
Дьяк Грамотин предлагает послам разумный компромисс — король польский должен признать русского царя императором в обмен на признание за ним титула короля шведского, на который Сигизмунд претендовал, но Годуновым в этом титуле не признавался.
Итак, намечено расплывчатое согласие по процедурным вопросам. Что же касается сути дела, то его решено обсудить после свадьбы.
Так всем легче.
Откуда им знать, что последует за свадьбой!..
Но сама атмосфера переговоров говорит о многом.
Дмитрия слишком часто называли орудием польских планов, проводником католицизма.
О том, как было на самом деле, дает представление диалог с послами, об отношениях с католической церковью тоже есть документы.
Вот, например, оптимистические строки из письма папы Дмитрию:
«У тебя поле обширное: сади, сей, пожинай на нем, повсюду проводи источники благочестия, строй здания, которых верхи касались бы небес, воспользуйся удобностью места и, как второй Константин, первый утверди на нем римскую церковь!»
Однако в письмах с другой стороны, то есть Дмитрия, призывы папы остаются без отклика, и это несмотря на то, что Павел V оказывает московскому царю реальные услуги — признал цесарем и даже сформулировал новый московский титул по-латыни, убеждает признать титул и Сигизмунда, подталкивая короля к союзу с Дмитрием в интересах общехристианской борьбы с султаном.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: